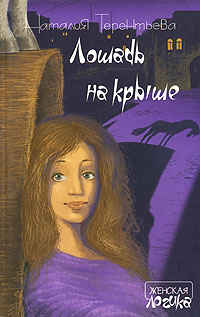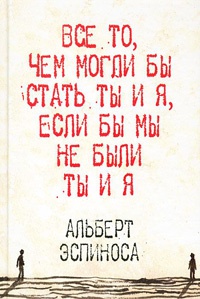Книга С носом - Микко Римминен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наконец Ирья решила нарушить затянувшуюся паузу и сказала:
— Ой-ой-ой, что же это ее так расстроило?
— Ой-ой-ой, — сказала и я, но едва слышно.
Мари, не обращая внимания на мое мычание, заметила:
— Не пора ли сменить подгузник нашей маленькой какашенции?
Она произнесла это с такой теплотой, на которую взрослый человек способен только в одном состоянии: будучи родителем. Мне в тот же миг захотелось погрузиться в свои собственные, скудные, но родительские воспоминания о какашках, однако сделать этого я так и не успела, потому что Ялканен-отец сказал: «Угу»; и хотя его ответ не имел с точки зрения смысловой наполненности абсолютно никакого реального веса, определенный импульс в этом простом междометии все-таки был.
Их намерение уйти вначале даже испугало меня, сама не знаю почему, возможно, потому, что я не понимала, зачем они вообще пришли и стояли там на лестничной площадке, или, наверно, просто потому, что они были так немногословны, эти Ялканены, однако вряд ли можно было их в этом обвинять, разве не имели они права удивиться тому, что незнакомая тетка, проводящая подозрительные опросы, вдруг объявляется в прихожей их соседей и ведет себя весьма и весьма странно. Ирья поспешила мне на помощь и стала объяснять, что у них сегодня праздник, и мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, о чем она говорит и у кого праздник, наконец после нескольких глухих ударов сердца до меня дошло, что это у них, у Ялканенов праздник, и Ирья добавила: мы тут подумали, что, может быть, ты тоже не прочь к ним заглянуть, — ощущение было такое, словно у меня в голове порвалась вдруг какая-то жилка и все тело охватил слепой, всепоглощающий детский ужас.
Я посмотрела на них на всех, на каждого в отдельности, на Ирью, которая все еще была в платке и с тряпкой в руках, день уборки — это день уборки, что бы ни случилось, на Мари и ее мужа, склонивших головы друг к другу, словно голубки, на девочку, которая непонятным образом висела как бы между родителями, хотя на самом деле сидела только на руках у матери; ее плач заметно ослабел и превратился в тонкий писк, но по лицу было видно, что по-прежнему что-то не так, и мой нос, несмотря на всю его бесформенность, безошибочно чуял, с чем это связано.
Уже давно пора было что-то сказать, и, похоже, на этот раз особых сложностей с порождением речи у меня не возникло, слова ползли изо рта липкой, тягучей лентой карамели, сын играл с такой лентой в детстве, я бы ни за что не позволила, но его отец тайком приносил эту сладкую дрянь, невыносимо было смотреть на кривлянье ребенка; не знаю, как он это делал, но ему всегда удавалась запихнуть в себя невообразимое количество этой отравы, которую он потом театрально вытаскивал изо рта или из носа целыми километрами, как иногда казалось. Так вот, словесный поток вдруг зажурчал, этакое смахивающее на плач бормотание, в котором плачевная составляющая, я очень надеялась, осталась незамеченной, хотя, конечно, вряд ли, потому что именно на плач это больше всего и походило, на плач, на причитания, на стон сердца, да как же вы, люди добрые, да какие же вы добрые, да разве же я могу, ох-ох, разве я осмелюсь, чужой человек, вы уж простите, но не могу, не могу, Боже ж ты мой, да зачем же вы, добрые, добрые люди. И вначале они, естественно, ошарашенно на меня смотрели, а потом даже стали утешать, мы стояли в дверях и тянули и без того растянутые гласные, этакий словообмен с завыванием, который люди из вежливости готовы продолжать до бесконечности, будто бы торгуясь, но только наоборот.
Но я довольно быстро куда-то выпала из этого словесного варева: рот продолжал говорить, но мысли стали крутиться вокруг совсем другого, и, несмотря на всю эту дружескую трескотню, вызванную соседским приглашением, в голове бился панический страх, что у них, у Ялканенов, тоже наверняка есть дома эта проклятая газета, надо заполучить ее любой ценой, нельзя же пугать их, Ялканенов, глупой заметкой, ведь они такие хорошие люди, очень хорошие, очень.
И тогда я решила, по крайней мере со своей стороны, закончить все эти приветливые словесные поглаживания и, вздохнув, сказала: хорошие мои, конечно же я приду, приду обязательно, тем более у меня есть к вам дело, надо отдать одну бумагу, пойдемте скорее, я покажу эту бумагу, вон и ребенку уже совсем невмоготу. И я стала торопливо протискиваться на лестничную площадку. И разумеется, они тут же пошли за мной и стали суетиться у дверей, еще бы, раз странная тетка так торопится; и уж не знаю, моя ли настырность заставила нервничать Ялканена-отца, но ключи не один раз упали на пол, прежде чем он смог наконец-то открыть дверь. В тот момент, когда она открылась, я прошептала Ирье: «Увидимся» и уже совсем в другом душевном состоянии юркнула в прихожую Ялканенов вслед за хозяевами. Я думала о газете, я должна была заполучить ее, и надо же такому случиться, она валялась прямо у дверей, на коврике, премьер-министр одним глазом выглядывал из-под пятки белых спортивных тапочек Мари.
Так как необходимость идти дальше и беспокоить людей понапрасну отпала, надо было срочно придумать повод задержаться именно в этой части квартиры. Я принялась торопливо бормотать что-то невнятное про бумагу, и — конечно, по чистой случайности, ну или наполовину по чистой случайности — в тот же миг моя сумка упала на пол, а вслед за ней упала и я, на колени, и стала вытаскивать из сумки ежедневник, бумажник, пакетик с салмиачными леденцами, бумажные носовые платки, мятые распечатки и всю остальную пущенную в ход для отвода глаз требуху, не имеющую абсолютно никакого отношения к делу.
Одновременно я пробормотала: идите скорее домой, милые люди, то есть проходите вперед, ребенок ведь уже явно измучился, не обращайте на меня внимания, я просто сейчас найду эту бумагу и оставлю здесь, вот здесь, например, ничего в ней особенного нет, и куда я только могла ее деть. И хотя я прекрасно понимала, что с каждым мгновением проваливаюсь все глубже и глубже в ужасную пропасть, все складывалось вовсе не плохо, они уже прошли в комнату, вся семья Ялканенов, осторожными шажками, оно и понятно, так обычно бывает, когда незнакомый человек начинает командовать в вашем же доме, и, на секунду оставшись одна в прихожей, я успела быстро сунуть рожу премьер-министра, а вместе с ней и ужасную новость, на самое дно сумки.
Готово. Я подняла глаза и увидела свое отражение в массивной стеклянной узкогорлой посудине, которая стояла там же в прихожей, забитая зонтиками, палками для ходьбы и всякой другой коридорной всячиной. Она была там, в этой посудине, — раскорячившаяся на полу в чужой прихожей, испуганная женщина средних лет, с вылезшими из орбит глазами, и если о ней что-то и можно было сказать, то это могло быть все, что угодно, кроме того, что она была преисполнена решимости к каким-либо действиям.
Но прежде чем выбраться на лестничную площадку, а оттуда на улицу и в машину, я достала из сумки жалкую бумажку, встала, треща колготками, проковыляла на кухню, протянула листок одиноко стоящей там в верхней одежде и все еще ошарашенной Мари, вытащила еще одну улыбку из странного запасника последних признаков жизни, сказала: увидимся на празднике, и попятилась обратно в прихожую.
Уже у порога протрубила «до свидания», выскочила на лестничную площадку, засеменила вниз по лестнице лишь с одной мыслью в голове, с ужасной мыслью о бумаге, которую пришлось оставить Ялканенам, — крупными буквами на ней было напечатано три вопроса, три глупых, нелепых, по всем статьям идиотских вопроса о стиральном порошке, бумажных полотенцах и, подумать только, Господи Боже мой, орешках.