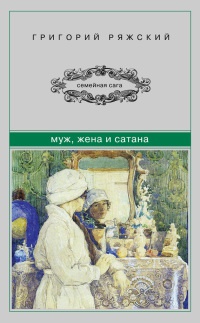Книга Новый американец - Григорий Рыскин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Пишите старательно, пишите талантливо. Пишите так, как писал бы я, если бы был талантлив.
Извечный сюжет:
Как над искусством произвол глумится.
Как правит недомыслие умом…
Но ведь Провидение предоставило шанс и нам. Вот мы, набежав пестрой, бестолковой толпой, издаем независимую газету. Но еженедельник, взлетев, как шутиха, над третьей волной, разваливается. И, склоняя головы, мы идем на поклон к Недомыслию, чтоб оно правило нами. Именно об этом моя повесть «Газетчик». Ну конечно, она о Сергее Довлатове и газете, звездном часе его жизни.
Писатель Марк Поповский причислил книгу к жанру пасквиля:
– Каково же родным и близким покойного читать повесть, автор которой опрокидывает на могилу покойного урну с мусором.
Родные и близкие книгу прочитали, но, судя по тому, что продолжают оказывать автору гостеприимство, урны с мусором не обнаружили. Да и мудрено таковую узреть, если обратиться к тексту:
«На другой день Амбарцумов читал свои рассказы в венской штаб-квартире эмигрантского издательства. Его фраза была как текинская лошадь. Ни унции жира. Только мышцы и кости. Особенно хороши были диалоги. Ироничные, парадоксальные. Все его прототипы были мне хорошо знакомы, но то была живопись, а не фотография. Этот бархатный карточный валет с глазами цвета конского каштана был ПИСАТЕЛЬ, и с этим ничего нельзя было поделать».
Что же может быть более лестным для творческого человека, чем такое признание.
А вот диалог, в котором автор защищает своего героя:
– Амбарцумов – это Антоша Чехонте, который никогда не станет Чеховым.
– Чехонте – не так уж плохо. Когда Амбарцумов умрет, после него останется том талантливой прозы. Что останется после нас с тобой?
– Но Амбарцумов никудышный журналист.
– И правильно. Журнализм убивает писателя.
– Амбарцумов подражает Хэму.
– А ты попробуй.
– Все равно он подонок.
– Талант не обязательно ангел.
– Ты был у Амбарцумова в уборной?
– Не довелось.
– Он прикрепляет к крышке унитаза портреты своих врагов.
– Но когда мне плохо, я открываю его книгу, и мне становится легче.
Герой моей повести сильно пьющий и сильно злоречивый человек. Мало того, порой он совершает неблаговидные поступки, в которых затем раскаивается. Но кто же без греха!
«Наконец-то понял его. Вся жизнь была для него сюжетом. Он бесконечно примерял, репетировал, разыгрывал, перечеркивал в своем воображении. Пробовал слово на зуб. Для него бытие – это фразы, ситуации, диалоги. Работа настолько захватила его, что порой он уже не различал, где текст, а где жизнь».
Если подобно школьному учителю предложить читателю написать сочинение на тему «Образ Амбарцумова в повести „Газетчик“», то положительных черт у моего героя наберется куда больше, чем отрицательных. Внешнее обаяние и артистичность, остроумие и щедрость, талант словесных формулировок и талант рисовальщика. Тут увенчание лаврами, а не мусорной корзиной.
Непонятно, почему Марк Поповский так обиделся за Довлатова-Амбарцумова, ежели сам на страницах широко читаемой русскоязычной газеты причисляет все его книги к жанру пасквиля. То есть, защищая человека от воображаемой корзины с мусором, свою корзину тотчас же ему на голову и водружает. Выписав из энциклопедии определение понятия «пасквиль», он подводит под категорию пасквилянта всякого автора, в сочинениях которого просматриваются несимпатичные черты узнаваемых современников. Ну а как же быть с пушкинскими эпиграммами? Как быть с Кармазиновым – Тургеневым из «Бесов»? Как быть с желчным Бродским, изобразившим в цикле «Из школьной антологии» пошлые судьбы своих одноклассников? Поэт даже имен не изменил. Вот из письма Алексея Ремизова Василию Розанову:
«Есть у меня две карикатуры на вас: одна из „Сатирикона“, другая из газеты какой-то. Я бы приложил их сюда, да не знаю уж: нехорошо, говорят. А по мне: ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично. В одном японском журнале поместили карикатуру на меня вместо портрета, и без всякой оговорки. И ничего получилось: чудно, а все-таки живой, не то что в паспорте фотографическая карточка».
Художественное произведение отличается от пасквиля тем, чем талант от бездарности. Почему «Компромисс» – правда, а не навет? Потому что, если бы автор попытался покривить душой, у него, даже талантливого, хорошая проза не получилась бы. Чтобы написать ТАК, нужно быть искренним, нужно выстрадать каждое слово, нужно прикоснуться к БОЖЕСТВЕННОМУ ЛОГОСУ, который есть ПРАВДА.
Можно громко вопрошать: «Нужна ли писателю совесть?» Можно быть честным и даже святым, но БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛОГОС не допускает тебя к себе. Пьющий, далеко не святой Довлатов был допущен. И в этом пафос моей книги о нем.
В повести «Иностранка» писатель изображает утро в эмигрантском гетто в Форест-Хилл, где он жил, окруженный своими героями: «Вот идут наши таксисты. Коренастые, хмурые, решительные». Всего одна фраза. Но как много открывается. Я сам работал таксистом. В таксисты идет тот, кому идти больше некуда. Отсюда хмурость. Чему радоваться, когда каждый день пристрелить могут. В таксисты идет только решительный. Трус предпочитает велфер. Чтоб в аэропорту чемоданы таскать, таксисту желательно быть коренастым. Полусогнутому «фитилю» в тесной кабине двенадцать часов не высидеть. «Коренастые, хмурые, решительные». Обратите внимание на повторяющуюся в каждом слове «р», подчеркивающую жесткость ситуации и характера.
Писатель, живущий в эмигрантском гетто, слишком тесно прижат к своим героям. Тут нет отстраненности. Вот ты выписал, к примеру, трагикомическую фигуру издателя русских книг, которые здесь никому не нужны. От человека ушла жена, он вынужден спать на складе, на ящиках с книгами. Утром, направляясь в магазин Мони за сигаретами, автор сталкивается со своим героем, который книгу, несомненно, прочитал. Тут ведь могут, как Вольтера, палками побить. Хорошо было двухметровому Довлатову, а ежели кто помельче… А то вдруг начнут в газетине стыдить да вопрошать: «Нужна ли писателю совесть?»
Я не пошел на похороны Сергея Довлатова. Невозможно было представить его в гробу. В одном из рассказов таллинского цикла лирический герой выпивает и закусывает, поставив бутылку и стаканы на крышку гроба. Подобно шекспировскому могильщику Довлатов острит и иронизирует, стоя над открытой могилой.
Возможно, когда-нибудь им займется серьезный литературовед. Исследовать творчество Довлатова – это значит исследовать природу иронического. Франц Шлегель писал в «Критических фрагментах»:
«Ирония с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство и добродетель».