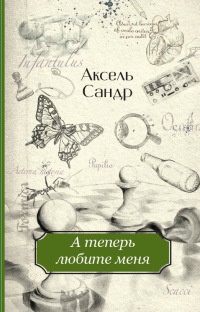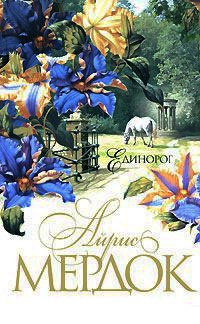Книга Честный проигрыш - Айрис Мердок
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Теперь, глядя, как такси Джулиуса отъезжает и скрывается из глаз, она испытала шок, но в шоке пенилась радость. Джулиус говорил чудовищные вещи, но его язык и всегда был чудовищным. Акт истребления платья вселял максимум надежд. Такая вспышка ярости немыслима для человека, которому все равно. Джулиусу не все равно. Его поступок имел глубокое объяснение, и равнодушию тут места нет. Однажды ей уже приходилось видеть нечто подобное. В тот раз он методично и безжалостно разделался со шляпкой, вызвавшей на садовом приеме в Диббинсе — она сама весело рассказала об этом Джулиусу — восхищение осторожно ухаживавшего за ней коллеги-преподавателя. Реакция Джулиуса потрясла ее, вызвав и страх, и восторг. Правда, в тот раз, когда изничтожение шляпки было закончено, они сразу же оказались в постели.
Все еще ошарашенная, она стояла возле окна на толстом коричневато-желтом индийском ковре, устилавшем гостиную Джулиуса, и постепенно осознавала еще один нелепый оттенок ситуации: свою полную наготу. Подойдя к двери спальни, она потянула за ручку. Заперто. Навалилась на дверь и толкнула: заперто крепко и надежно. Надо подумать. По телу прошел первый легкий озноб. Телефон. Но телефон был в спальне. Она принялась за осмотр квартиры. Но никакой одежды не обнаруживалось. Ни симпатичного плаща, висящего за дверью, ни плотно запахивающегося халата в ванной, ни куртки с брюками, забытых где-нибудь в углу. Джулиус был фантастически аккуратен. И, конечно же, вся одежда висела на плечиках в этом желанном и недоступном стенном шкафу. Но! Отсутствовала не только одежда, но и вообще ткань любого фасона и назначения, кроме скромных размеров кухонного полотенца и насквозь мокрого полотенца в ванной. Не было даже тряпок, и коврик в ванной комнате был пробковый. В гостиной, правда, были занавески. В кухне и в ванной они отсутствовали: окна рифленого стекла занавесок не требовали.
Встревоженная, но еще далекая от паники, Морган внимательно осмотрела имеющиеся занавески. Прилегающие к стеклу были из полупрозрачного нейлона, наружные — из плотного синего бархата, густо прошитого золотыми нитками. Окна были высокими, и до верха не дотянуться, даже встав на любой из имеющихся предметов мебели. Конечно, пара крепких ножниц в мгновение ока обеспечила бы ей два куска ткани. Но где взять пару крепких ножниц? Ее собственные заперты в спальне.
Поиски в кухне не дали ничего лучшего чем нож для разрезания мяса, и, вооружившись им, Морган двинулась к занавескам, но в результате только выяснила, что: первое — не слишком острый нож бессилен разрезать густо прошитые золотыми нитями бархатные занавески, второе — заполучив их, она разве что сможет согреться, для всего остального они решительно не годны. Прежде мелькала слабая надежда превратить занавески в подобие самодельного платья, но теперь стало ясно, что из такой толстой и жесткой ткани сшить что-либо не удастся, даже если она ее разрежет (что невыполнимо) и даже если в квартире отыщутся швейные принадлежности (на самом деле отсутствующие). Выдрав карниз из стены, я, пожалуй, и добралась бы до этих чертовых занавесок, но какой в этом толк, подумала Морган. Хотя, с другой стороны, если я остаюсь здесь до понедельника, они еще понадобятся мне как одеяла.
Да, положеньице! Она вышла в прихожую и осмотрела лежащий на полу ворох искромсанной одежды. Изрезано на безнадежно мелкие кусочки. Она снова начала биться в дверь спальни, но та проявляла стойкость. Никаких инструментов, чтобы взломать замок, не было. Морган опять начала поиски. Ни съемных чехлов у кресел. Ни подушек площадью больше квадратного фута. Ни скатерти. Центральное отопление было явно отключено, и делалось уже по-настоящему холодно. Солнце еще не зашло, но сумерки сгущались. Как же быть? — думала Морган. Джулиус, разумеется, вернется. Или нет? Он взял с собой чемоданчик. Вполне способен и не вернуться. Ему ведь любопытно, как я сумею выкрутиться из такой ситуации.
Можно было, конечно, открыть окно и позвать на помощь. Или выйти завернутой в полотенце на лестничную площадку и позвонить соседям в надежде, что дверь откроет какая-нибудь готовая посочувствовать женщина. Но как объяснить свое более чем экстравагантное затруднение? Спасительная идея наверняка существует, сказала она себе, только мне до нее пока не додуматься. Сев на диван, она попыталась укрыться вышитыми подушечками. Но, маленькие и тугие, они все время сползали. Она попыталась сосредоточиться. И почти сразу расплакалась.
Саймон был очень обеспокоен. В чем дело, он толком не понимал. Возможно, в жаре. Как и многие англичане, он всегда притворялся, что любит жару, хотя на деле это было не так. Июльский Лондон с наконец установившейся стабильно солнечной погодой стал местом, в котором можно сойти с ума: душным, сдавленным, пересохшим, с призрачно поблескивающими рядами домов, таящих в себе одиночество, еще более безысходное, чем в пустыне Сахара. Надо уехать за город, бормотал он. Но это было не просто. Сам он мог бы освободиться, но Аксель, много, даже, пожалуй, слишком много работающий сейчас над одной из проблем, суть которых Саймон так никогда и не уразумеет, безусловно, не согласится взять отпуск. А выезд на уик-энд требует воли и собранности, недостижимых в том положении, когда именно их отсутствие и породило идею срочно куда-нибудь сбежать. Кроме того, Аксель теперь работал и по субботам.
Аксель тоже был в скверном настроении. Нет, он не сердился на Саймона. Это, в каком-то смысле, было бы легче. Он был всерьез недоволен собой и проходил через один из периодов мрачности и самоуничижения, которые так часто накатывали на него в начале знакомства с Саймоном. Акселя угнетало, что он не проявил выдержки во время инцидента с Питером. Стыд за нанесенное оскорбление — это страдания собственной уязвленной гордости, а вовсе не огорчение из-за причиненной боли, объяснял он Саймону. Но толку от этого разъяснения не было никакого. Скорбь в связи с уязвленной гордостью продолжалась. Аксель написал длинное письмо Руперту. Написал — Саймон обнаружил это, вытряхивая мусорную корзину, — несколько писем Питеру, но, похоже, так ни одно и не отправил. Параллельно он непрерывно муссировал тему о безнравственности человека в летах, навязывающего свою любовь тому, кто молод. Размышлял вслух, не исковеркал ли он жизнь Саймона, не создан ли тот все-таки для брака с женщиной. Рисовал картины счастливой семейной жизни Саймона с длинноногой двадцатидвухлетней красоткой. Наделял его несколькими чудесными ребятишками.
Предполагал, что он стал бы прекрасным отцом. Чуть не плача, Саймон бросался Акселю на шею. Аксель брюзгливо замечал, что все это, если смотреть на вещи трезво, просто секс.
Акселя мучили слова Питера о маскировке и лицемерии. Мучение было не ново. Саймон нередко слышал, как Аксель, разнообразя оттенки горечи, говорил о своем отвращении к соблюдению тайны. Иногда, пребывая в этом настроении, порицал косность общества, все еще с осуждением взирающего на такое естественное и безобидное явление. Иногда порицал cебя за отсутствие смелости открыто заявить о своей ориентации. Ведь кто-то должен быть первым, говорил он. Саймона этот вопрос не беспокоил. В бесшабашные времена, пока Аксель еще не вошел в его жизнь, секретность казалась чем-то забавным, органически связанным с веселой чехардой эскапад. Даже когда глубокая любовь к Акселю сделала Саймона и серьезнее, и счастливее, он так и не приучился разделять все эти угрызения и сомнения. Естественная уклончивость, эвфемизмы, например «мой друг Нильсон, с которым мы вместе снимаем дом», представлялись ему, скорее, защитным барьером, удобной ширмой, за которую они с Акселем прячут чудесную тайну своей любви. Для него все эти обиняки делали их совместную жизнь уютнее и интимнее. В отличие от мучающегося этим Акселя он вовсе не ощущал скрытой в них разрушительной силы. «Ну так возьми да и напиши об этом в „Таймс“!» — воскликнул наконец, стараясь обратить все в шутку, Саймон. «Пожалуй, следовало бы», — мрачно ответил Аксель и, погрузившись в тяжкое и озабоченное молчание, без слова похвалы съел превосходное суфле из сыра, впервые изготовленное Саймоном по собственному рецепту.