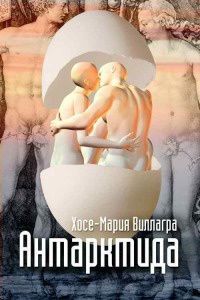Книга Последнее странствие Сутина - Ральф Дутли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но что за цвет у платьев матери и девочки! Два забытых тайника небесной лазури. Клочок блаженно-светлого обещания счастья покрывает кожу каждой из них. Но взгляд, поза, торфяно-коричневые чулки матери мгновенно отрицают его. Выбившаяся оборка белого нижнего платья усиливает отречение. У девочки же небесная лазурь – это кожа весело скачущего настоящего. До тех пор, пока она в это верит. Кусочек этой лазури кокетливо льнет к ее глазам. Может быть, эта небесно-голубая девочка когда-нибудь увидит в своей жизни больше счастья. Но этого никому не дано знать.
Художник горячится на своей белозарной постели. Нет, только не о счастье. Никакого суетного счастья. Счастье тут вообще ни при чем. Говори лучше о молоке. Цвет будущего – это цвет молока.
Он лежит в своей ослепительно белой постели, и ему в самом деле приходит на ум слово «счастье», кажущееся таким невероятно чужеродным в его жизни. Да и точно ли это слово? С какой стати? Может быть, какое-то другое, похожее – но никакого похожего не существует. Репутация самого несчастного художника на Монпарнасе служила ему надежным щитом. Аура несчастья ограждает человека от назойливости мира. Несчастного великодушно оставляют в покое. Он становится неприкасаемым, понимаете? Чудесный предрассудок защищает его не хуже крепкого телесного запаха. Несчастный Сутин! Весь Монпарнас сокрушается о нем. Ужасное детство, отчаянная бедность, разрушительная ненависть к собственным картинам, изматывающая боль желудочной язвы, неизбывная застенчивость, совершенная покинутость. И в довершение всего он вынужден спасаться от оккупантов и их пособников. Тайком, в катафалке!
Или же он только предпоследний на шкале несчастья, как и всегда: десятый из одиннадцати. Художник никчемного люда, говорили про него, портретист оскорбленных и униженных, говорили они, изобразитель голода и истязаемых животных. Распятые индюки, подвешенные зайцы, с которых уже содрали или вот-вот сдерут кожу, – это все он сам, говорили они. Пожалуй, они и кровавую воловью тушу приняли за него самого.
Красочная, переливчатая смерть призвала его к себе в свидетели. Смерть не хочет умирать неувиденной. Смерть – это триумф, и сколь прекрасен цвет и узор ее крыльев! Курица с синей шеей, темные жилы перепелки… Смерть взыскательна, она требует не жалеть на нее красок. Несчастье – да, конечно, и в то же время ошеломляющий, захватывающий дух восторг для сетчатки. Они проглядели его. Он оказался невидимым. И хотел таковым остаться.
Только Андреа, художница, одна из спутниц планеты Монпарнас, однажды спросила его напрямик своим звонким голосом – больше никто не решался:
Скажите, Сутин, вы, наверно, были очень несчастны в жизни?
Вопрос застал его врасплох, он даже не сразу понял, о чем речь. Но и сейчас, в катафалке, на простынях белого рая, он помнит, что ответил ей:
Нет! Я всегда был счастливым человеком!
И лицо его, если верить Андреа, осветилось горделивой радостью.
Он роется в памяти, стараясь отыскать там истинное счастье. Но не все ли равно – истинное счастье или суетное, это все одно и то же. Оно было, оно оставило свой след в его жизни – вот что главное. Побег из Смиловичей – счастье. Ночная Вильна в свете газовых фонарей, потом переезд в блистательную столицу живописи. Десять лет на капустных отбросах и селедке, лютый голод, и вдруг – разве можно себе такое представить? – появляется бог фармацевтики Барнс. Натуральная имитация зажиточной жизни, изысканная персональная смесь клошарства и роскоши, шляпы от Баркли, шофер Данероль, летние месяцы в Ле-Блане у Зборовского и в Леве у супругов Кастен, которые с трепетом ожидали каждой его новой картины и по-княжески щедро ему платили, после того как кризис 1929 года разорил Збо.
Они сходили с ума по его картинам и, принимая их в свой великолепный дом в Лев, чествовали как самых дорогих гостей. Это немое, самоотверженное ожидание Кастенов кружило ему голову. Мир ждет его картин! Ждет суетного счастья. И он делал вид, будто его действительно терзают сомнения: а сможет ли он написать следующую картину. Каждый завершающий мазок был для него как самый последний. Он любил эту мещанскую комедию. Все летние месяца он жил там, обласканный, в лоне блестящей французской буржуазии, с любопытством наблюдая за ней и находя очаровательными ее причуды и церемонии. Вечера в салоне, белая музыка Эрика Сати, звон бокалов с шампанским. У рояля все еще висит зонтик, забытый Сати в 1924 году.
Стол накрыт!
Не впрямь ли он сейчас услышал эту фразу – здесь, в катафалке? Его вежливо приглашают к ужину, он надевает настоящий костюм, хотя даже в заляпанном краской комбинезоне чувствует себя уважаемым и желанным гостем. Вот если бы в Смиловичах могли увидеть этот спектакль! Только прислуга смотрит на него с недоверием, когда он хочет ее рисовать. А она-то как раз очень интересует его. Повариха, слуга. Ничто тут не напоминает о детстве – французское лето вытравило его без остатка.
Генри Миллер пишет: Сутин теперь уже не такой дикий, он даже рисует живых животных! Больше никакой крови, только грусть.
И еще женщин с книгами, непринужденно лежащих на траве, увлеченно глядящих на страницы широко раскрытыми глазами. И раскачивающийся кафедральный собор в Шартре. Движение замерло, достигнув цели, светлый ландшафт принял его в свои объятия и нежно потрепал по голове. Оползень, начавшийся в Сере, остановился.
Но он ни на секунду не забывает, где находится, по-прежнему с жаром набрасывается на газеты, чтобы понять, какие книги сжигают в соседней стране, какие картины объявляются выродившимся искусством, какая война маячит на горизонте. Пестрая смерть еще далеко не преодолена. Хотя теперь он даже рисует живых животных. И Шарло, которому он подарил палитру. Маленьких бродяжек из Сиври и Шампиньи – осколки метеорита, упавшие из космоса.
Когда приходят оккупанты, его суетное счастье устраивает так, что он становится невидимым под своей синей шляпой. Штамп на фотографии получается размазанным. И никто не видит звезду у него на груди. И он не идет в западню, уготовленную на Зимнем велодроме. Его ищут, но он исчез. То было всего лишь суетное счастье исчезновения. И счастье поддельных документов.
Язва желудка оставалась с ним, боль зажимала рот всякому всегда неожиданному счастью. Он боялся, что станет другим, что уже стал другим. Старая рана должна оставаться открытой. Исчезнет она, зачахнет и его талант. Нищета, голод, уродство – в них скрыты великолепные возможности. Совершенная красота покоится в себе, она вырывает кисть у него из рук. Красавицы Модильяни – он не может их видеть. Они наполняют тела легким свечением, будто бумажные фонарики. Красота гасит их.
Он огорчается, когда при нем заходит речь о справедливом мире. Художник любит несправедливость, видит в ней шанс. Справедливость представляется ему никудышной богиней, которая мечтает сделать человека мельче. Самый ничтожный шанс ему несравненно милее. Все в мире распределяется несправедливо, понимаете, все. Здоровье, богатство, красота, талант, слава. Лишь неравное способно вдохновлять и окрылять. Любой поединок по кетчу для него дороже, чем лучшее мировое устройство. Жалкое стремление, горькое желание, бессмысленная надежда.