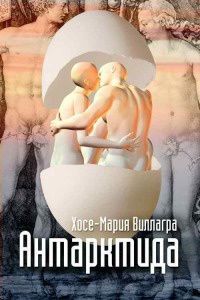Книга Последнее странствие Сутина - Ральф Дутли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поваренок отмахивается, художнику кажется, что он даже видит сквозь дверь его пренебрежительный жест:
Гораздо лучше будет предположить, что никакого доктора Готта вообще не существует. А если он и есть, то это должен быть какой-то гогочущий шарлатан, безмозглый коновал, который вечно попадает своим скальпелем не туда, куда нужно. Операция Вселенная – одно громадное шарлатанство, звезды, проколы от швов, бездна черных дыр. Поверьте, лучше уж умереть, не ожидая утешения с небес. Пропадать так пропадать. Одиноким и безутешным, потерянным и покинутым. Не ожидать ни милости, ни того, что будет после, – это ли не высшая свобода. Осознание всеобъемлющей безнадежности дарует единственную возможность жить дальше. Пощады не будет никому, доктор Готт. Так и должно быть. Эта белая клиника мне нравится, она даже лучше, чем я мог мечтать. Безутешный рай. Давайте поможем художнику.
Грум в красной форме вдруг произносит:
Вы ведь не думаете, что мы когда-нибудь выберемся отсюда? Что это за отель? Здесь нет даже лифтов, только лестницы.
Но художник ведь исцелен, или все же нет? – вставляет первопричастница, маленькая, нежная белая совка.
Церковный служка начинает снова:
Вы знаете серию холстов с молящимся человеком? Он написал их в Сере, в Пиренеях, в 1920 году, в том же году, когда умер Модильяни. Некий месье Расин служил ему натурщиком. Есть те, кто утверждает, будто он религиозный живописец. Художник распятого творения. И его спасения. Но с чего бы это и зачем? Не существует никакого спасения иначе чем в красках. Чего только люди не придумают.
Тихо, там кто-то слушает у двери. Я проверю, говорит мальчик-кондитер с большим красным ухом.
И он встает, крадется на цыпочках к двери и резко ее распахивает. Никого нет. Ни души. Художник уже ускользнул за угол, ни разу не шаркнув ногами в белых тапочках.
Служка же теперь утверждает перед комитетом заговорщиков, будто видел молящегося в клинике, сразу узнал его. И даже заговорил с ним. И он рассказывает о своей встрече, как он обратился с вопросом к господину с длинным лицом и густыми бровями:
Что вы здесь делаете?
Вы же видите. Молюсь.
Просто молитесь? Всегда только молитесь?
Для меня нет занятия лучше.
Потому что вы любите Бога? Спасителя, который уже был здесь, или Машиаха, который еще придет?
Молящийся строго смотрит на мальчика и спокойно ему отвечает, как давно уже взрослому:
Во-первых, нет никого, кто уже был, а во-вторых, нет никого, кто еще придет.
Нет Спасителя?
Ни сейчас, ни позже, даже сколько угодно позже. А вы хотите, чтобы вас всех спасли? Чего же вам не хватает? Вы никогда не бываете довольны? Без него обойдемся.
Значит, вы совсем не радуетесь будущему раю? Это будет так чудесно, мы станем петь и ликовать, наши голоса сольются в могучем хоре чистого восхищения. Это невозможно описать словами, наши тела исполнятся сияния и расцветут, чудесам не будет числа. И воцарится одно совершенное блаженство.
Блаженство? Рай? Ты, видно, смеешься надо мной. А где он был раньше? Даже если это когда-нибудь свершится, будет уже слишком поздно. Зачем это несчастное ожидание спасения, сама задержка уже стала неприличной. И никогда не будет такого большого и глубокого блаженства, которое смогло бы искупить все страдание и все муки, исцелить все, что было разрушено и раздавлено. Не будет никакого искупления, ты слышишь, да и как бы оно могло быть, в чем бы оно заключалось? Что угодно будет лишь жалкой подачкой за все страдания и несчастья, произошедшие за миллиарды лет. Дурацкий кусочек сахара. Он и сам прекрасно знает, что все равно всегда останется должником, что ничего не сможет искупить, поэтому предпочитает не появляться совсем. Нет никакого искупления для Бога. Никогда. И оккупанты будут творить с миром все, что посчитают нужным. Вся Европа, понимаешь, не только Франция, нет, весь мир будет болтаться на свастике, понимаешь? Ногами кверху, с плечами, вывернутыми из суставов, распятые на покореженных крестах.
Бог не допустит этого, сударь.
Бог допускает все, в том-то и дело. Все и вся, любую отвратительную мерзость, ты еще не смекнул своими розоватыми церковными мозгами? На это Бог изобрел карт-бланш.
Почему же вы тогда постоянно молитесь?
А почему бы нет. Именно поэтому. Сын Божий умер. А каков сын, таков и отец. Тем правдоподобнее, чем нелепее. Положенный в гроб воскрес, а воскресший навсегда мертв. Это совершенно достоверно, потому что невозможно. Credo quia absurdum. Верую, ибо абсурдно.
Я перестал вас понимать.
Служка пытается прервать разговор, от которого ему становится не по себе.
Но господин еще продолжает:
In nomine patris et filii et spiritu sancti. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Amen, срывается с губ служки.
А теперь оставь меня в покое, я занят.
Мужчина бормочет что-то невнятное, раскачивается взад и вперед и больше ни на что не реагирует.
Художник тихо вернулся в свою белостланную палату. Он пытается забыть, что это не просто воспоминание. Он едет в катафалке на операцию в Париж и вспоминает белый рай. Он лежит в белой клинике и вспоминает поездку в катафалке из Шинона в столицу скорби. Когда он о чем грезит? Он качает головой во сне. Выходит, маленькие заговорщики живут, как и он, в этой белой клинике? Это кажется настолько немыслимым, что он отворачивается к белоснежной стене.
Теперь они снова встают у него перед глазами, мать с ребенком, которых он нарисовал в сорок втором, в год больших депортаций. Это одна из последних картин, написанных им в Шампиньи-сюр-Вёд. Их головы сдвинуты так тесно, что ближе уже невозможно, они почти перетекают одна в другую, но в близости таится огромное напряжение, которое их разрывает. Взгляд матери скользнул вниз на грязно-коричневый пол. Темень вокруг ее глаз – это не круги от изнеможения, оттуда говорит окончательная невозможность видеть что-либо впереди, в будущем. Особенно левый глаз погружен в грязную темноту несчастья, утопает в цвете беды.
Но центр – это взгляд маленькой девочки, такой наполненный жизнью, направленный слегка вверх, весело рвущийся прочь от беды, вероятно в будущее, которое для ребенка, конечно, носит совсем другое название. Есть только сейчас. И осязаемая радость жизни. Глаза скачут от веселья, смотреть вокруг – чистое удовольствие. Девочке уже не сидится на месте, вот-вот она спрыгнет с колен матери. Ее присутствие, как свинец, можно видеть только одно плечо матери, другое уже сникло и изглажено страшною катастрофой. Плечи девочки, напротив, раздуваются от счастья, от торжества жизнелюбия на воле грубого холста страданий.
Когда-нибудь и эта жизнерадостная девочка усвоит жалкую позу своей матери. Два лица воплощают в себе две фазы жизни, из которой одна неминуемо сменяет другую. Толстые коричневые чулки матери зримо доминируют на переднем плане. Выражали ли когда-нибудь чулки столько горести, сколько это раздвоенное торфяно-коричневое убожество? Сама жизнь – пара подвязанных коричневых чулок. Ножка стула с левой стороны так наклонена, что едва не слитая воедино неравная пара в следующее мгновение должна окончательно рухнуть в пропасть. Почему именно сейчас ему приходит на ум слово «яма»? Густо-черная тень слева, кажется, уходит в бесконечность. Есть ли здесь вообще стены? Едва ли, это пространство – пустая территория страдания.