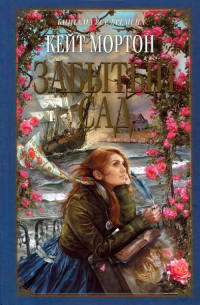Книга Дед - Михаил Боков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Погоди-ка, – рассказанная история кое-что Ганину напомнила. – А сигареты тот дед у вас не стрелял?
– Как же не стрелял! Полпачки выцыганил. И еще выпить просил. Только мы ему сказали: мы, дедушка, на особо важном задании, а потому горючего с собой не имеем.
– А еще? Еще что-нибудь говорил?
– Говорил, что к бабе своей идет. Баба, сказал, у него в селе… Как же село-то называют… Кривоколенное, что ли? Кажись, да – Кривоколенное. А мы еще посмеялись: ну дает старый. Тут ко встрече с Богом надо готовиться, а он – выпивать да по бабам. На том и разошлись. Ух, проклятый! – калмык потряс смуглым кулаком. – Нечистая сила!
Ганин хлопнул себя по колену:
– Видал я твоего лешего!
– Да ну?
– Этот твой леший нас на танк и навел! Шли мы в другое место, а тут он посреди чащобы: не туда, говорит, другой дорогой надо идти. Ну, мы и повернули. И вышли точнехонько на танк. А вас, значит, в болото… – Ганин задумался. – Стало быть, сберечь нас хотел, леший твой. Знал, что не с добром едете.
– Работа у нас такая, – сказал водитель миролюбиво. И цокнул языком. – Ну, дела! Лешие рыщут по лесу, танки из земли вынимаются – чего только не насмотришься!
Очень скоро они свернули с узкоколейки на лесную тропу. А затем ушли и с нее – уазик, тяжко переваливаясь, пополз по холмам и пригоркам. Говорить больше было не о чем. Калмык следил за тем, чтобы не наскочить на дерево или яму. Ганин, расслабленный от пива, смотрел по сторонам: не появится ли снова озорник-дед? Но, видимо, являться дважды одним и тем же людям леший не мог – знать, на другом конце леса уводил с тропы новых встречных и клянчил у них выпивку и сигареты.
Неожиданно машину толкнуло, и мотор замолк.
– Тпру! – сказал калмык, будто сидел не за рулем машины, а погонял лошадь. – Прибыли! Дальше хода нет.
Впереди вырастала стена леса.
– Что же это, дальше пешком пойдем? – спросил Ганин.
– Ты пойдешь. А я поеду назад в город, – сказал калмык. – Вообще-то мне велено было тебя до самого места довезти. Но у нас так: начальник велел – начальник же и забыл. А мне в город надо, меня дела ждут. Мужчина ты взрослый, по чащобе шастать мастак – не заблудишься же? Идти надо прямо и прямо, поляна ваша в двух километрах отсюда.
– А если утеку?
– Ну, мил человек! – калмык развел руками. – Тебя ж не на казнь везут! Награждать будут! Кто в своем уме от этого отказывается? А если уж решишь утечь – твое право. С меня какой спрос? Скажу: в грудь меня толкнул и побег. Не стрелять же вслед. А машина, сам видишь, не проедет дальше.
– У Кузьмича-то проехала, – сказал Ганин.
Калмык повел на него черным глазом.
– Я тебе вот что скажу. Смотрю я на нашего Ивана Кузьмича и думаю, что он и сам как леший. Лес перед ним раздвигается. Болота сохнут. Лютый он. У такого хочешь не хочешь, а проедешь. А не проедешь, так перелетишь.
– Ясно, – сказал Ганин и открыл дверь. – Я тебе сто рублей должен.
– Подарок, – осклабился калмык. – От доблестной новгородской полиции!
Подарки от доблестной полиции Ганину перепадали впервые. Что-то определенно менялось в расстановке сил, влиявших на его судьбу.
– Смотри, больше не попадайся! – прокричал калмык ему вслед.
И Ганин услышал, как заурчал мотор.
– Уж постараюсь, – буркнул он, вступая в чащу.
Калмык, хитрая бестия, обманул.
До поляны оказалось не два километра пути, а все пять или шесть. Лес очень быстро сделался непролазным. Начались овраги – сохранившие, кажется, последние остатки влаги на земле. Во влаге, подозревал, продираясь сквозь бурелом, Ганин, прятались змеи.
Когда прошел час и ничего не случилось – оврагов не стало меньше, поляна не открылась его взору и только изрядно поубавилось сил, – Ганин стал подозревать, что таков был коварный ментовско-фээсбэшный план. Выпустить его на краю леса и отправить куда глаза глядят: глядишь, заблудится и пропадет сам. Без посторонней помощи.
Когда прошло два часа, подозрения переросли в уверенность. По лицу хлестало ветвями. Руки и спину кололи незнакомые злобные растения. Компаса не было. Даже если калмык не обманул и идти действительно нужно было прямо – с каждой секундой росла вероятность, что с прямого пути он сбился.
Со школьной скамьи Ганин нес в себе застрявшее знание: муравейники в лесу всегда находятся с южной стороны деревьев, по муравейнику можно определить направление и придерживаться его. Муравейников не было. Ганин шел и ругался вслух.
Через три часа ему понадобилось присесть. Солнце стояло в зените, и единственное благо густого леса – в котором ему, судя по всему, предстояло вскоре умереть – заключалось в том, что на земле была тень. Пиво, выпитое несколько часов назад, казавшееся лучшим напитком на земле, превратилось в тяжесть. Мучила одышка. Отчаянно хотелось курить. Прислонившись к стволу дерева, утирая ручьи пота, струящиеся по лицу, Ганин размышлял о том, сколько он сможет протянуть. Без воды человек живет девять дней. Если взять в расчет последнюю неделю, проведенную в тюрьме и выжавшую его как лимон, он давал себе сроку два дня.
Рассиживаться дальше не имело смысла. Искать его не будут. Кряхтя, Ганин поднялся и побрел вперед, кляня лес, ментов, Кузьмича и злосчастную судьбу, которая, как ему казалось совсем недавно, сделала поворот к лучшему. Вот оно лучшее, думал он про себя, сдохнуть в чаще и навеки потеряться для всех, как потерялся его дед.
Дед.
Мысль о нем заставила собраться с силами, подняла изнутри жгучую злость. «Не дождетесь! Первее сами передохнете». В своей жизни он повторял это «не дождетесь» тысячу раз. Когда лежал полумертвый в камере. Когда провожал Кузьмича с его ментовским эскортом после очередного учиненного в их лагере шмона. Когда наваливался в драке на обидчика, разбитый в кровь. И первый раз – еще очень тихо – он сказал это в московской редакции, когда узнал, что уволен и может катиться куда подальше.
Мир был равнодушен к таким, как он. В мир требовалось вгрызаться зубами или откатываться от него подальше, снося обиды, несправедливости и унижения. Вот что дало Ганину поле. Оно пробудило в нем давно дремавшую злость, выплеснуло ее, как выплескивается из кастрюли закипевшее молоко, показало ему самому, какой он. Не рохля младший редактор с намечающимся животиком. Не семьянин, у которого давно не стоит на жену. Не пассажир утреннего метро, трущийся потной спиной о другие потные спины. Поле обдуло его ветром и полило дождем. Поле обтесало его, оставило на нем шрамы. Поле дохнуло на него сырой землей. И когда в свой первый сезон Ганин кинулся на обидчика и стал лупить его по голове выхваченной из огня головней, он вдруг почувствовал ток собственной крови. «Жив! – застучало тогда в голове. – Жив!!!»
С тех пор он усвоил: злость – это хорошо.