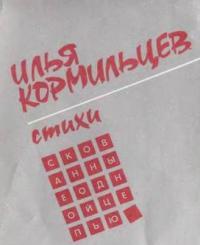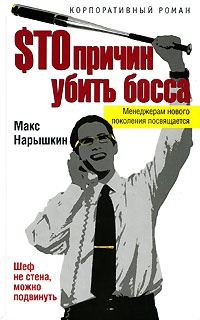Книга Голоса исчезают - музыка остаётся - Владимир Мощенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Конечно, Аксёнов, «присвоивший» мне в повести для «отвода бдительных глаз» и «маскировки» звание генерал-полковника (да ещё ВВС!), не был бы Аксёновым, если б он на этих страницах кое в чём не «загибал, как другой на свете не умел», не прибегал к гротеску и молодецкой иронии. Удивительный, нереальный у него генерал-полковник! Ну вот хотя бы: «Если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа: I’m beginning to see the light или Those foolish things[31]».
Хотите верьте, хотите не верьте, продолжает В. П., наивное командование не ведало об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной, в конце концов, для бомбардировки страны джаза, то есть Соединённых Штатов Америки. Мало того: генерал у него передвигается по столице нашей Родины не в роскошном лимузине, а… пешком. И увидел его В. П. не в Генеральном штабе, а в… подземном переходе на Манежной площади! Как простого пешехода. Оказывается, у генерала даже (!!!) кое-что имелось из продуктов для друзей: не бедствует, видите ли, генерал, не стоит в очередях за харчами!
«Приходи, – сказал он мне, подмигивая, – есть чем угостить».
Вот так…
В конце книги указано: июль 84, Вермонт – июль 85, Париж. В ту пору ему, представившему вашего покорного слугу своим читателям как «советского генерала со здоровенными звёздами на плечах», ещё не было известно, что я, не дослужившись до пенсии, с помощью ходатайства Союза писателей СССР ушёл в отставку, на вольные, как говорили, хлеба и перестал носить полковничьи погоны, о чём я ещё когда-нибудь расскажу подробнее, потому что история эта сама по себе забавна. Аксёнов в этой книге (с неподражаемым, величайшим трубачом Майлсом Дэвисом на обложке), вышедшей в Москве в издательстве «Текст» в девяносто первом, называет меня генерал-полковником Генкой Кваркиным. А уже 12 июля 1992-го на титульном листе книги он внёс, так сказать, поправку: «Генерал-полковнику Мощенко-Кваркину от его друга мл. лейтенанта мед. сл. в отставке В. А.».
(Здесь звучит «Ода радости»…)
В. П. был человеком заботливым (по своей инициативе прислал мне однажды в Боткинскую больницу для консультации знаменитого профессора-уролога, с которым учился в мединституте), был отзывчивым на шутку, умевшим смеяться, но ненавидящим дурашливость, глупость и – прошу простить меня за канцеляризмы – щепетильным, принципиальным. «Таинственная страсть (роман о шестидесятниках)» – свидетельство того, каким было мужественным и ранимым сердце Аксёнова (потому-то и произошла с ним «чисто житейская катастрофа»). Часто, ещё до выдворения из Союза, он говорил, если что-то (не в его вкусе) с кем-то случалось:
– Старик, надо определиться. – Ему нравилось это слово: «определиться». Он со значением произносил его. – Как думаешь: можно ли с этим человеком вести себя по-прежнему, будто ничего не произошло? Так ведь произошло, случилось ведь, уже не всё по-прежнему. Да, да, не всё!
У него это очень здорово выходило: вроде с налётом иронии, с улыбкой, которая топорщила его усы (типичный красавец-герой из вестерна – только-только примчался из диких и душистых прерий с горячим кольтом в кобуре), но чувствовалось: он словно перечеркнул в рукописи одну из самых удачных страниц. А потом ещё одну. И ещё одну…
В «Таинственной страсти», последнем романе, потрясают его слова, обращённые к популярнейшему поэту, чьи песни, обогащая автора, гремели на весь Союз и которого он считал близким: мол, ты, дружок Р. Р., бросившийся в партию от беспартийной богемы, потащился совсем в другую сторону, «почти столь же немыслимую для всех, сколь и Радио „Свобода“». И – его ужас: «Разве так судьбу берут за лацканы»?
А как надо брать – на этот вопрос он сумел дать сотни, тысячи ответов. Кто хотел – находил. Желающих было – сотни тысяч.
Раскидывавший руки для объятия при виде, казалось бы, утерянных друзей (ну чистый чувак из нашей джаз-банды, вернувшийся из Нью-Йорка на лето в Москву, на Котельническую набережную, к Яузе под окном, а никакой не профессор института Кеннана, университета Джорджа Вашингтона, Гаучерского университета и университета Джорджа Мейсона, переводчик нашумевшего у нас со страшной силой «Рэгтайма» Эдгара Лоуренса Доктороу, никакой не живой классик русской литературы), он мог тем не менее не подать руки такому количеству персонажей времён до– и послеперестроечных, что их перечисление заняло бы место поболе этой статьи. Он избегал их, как тень Короля Датского, не пожелавшего откликнуться на голоса смалодушничавших Горацио, Марцелла и Бернардо в первой сцене «Гамлета». Верно подметил Марцелл, когда призрак брезгливо скрылся:
Ушёл!
Напрасно мы, раз он так величав,
Ему являем видимость насилья;
Ведь он для нас неуязвим, как воздух,
И наше нападенье – лишь обида…
Думаю об Аксёнове – и почему-то невольно думаю о нескончаемой молодости.
Он никогда не расставался с нею, как бы дорого это ни давалось, её высокая волна поднимала его, придавая новизну всему, что вокруг, и ликовала, бурлила в каждой его новой вещи, в каждой строке и в прямом общении с людьми. Васе хотелось, чтобы читатели разделили эту радость, приобщились к ней. Я сказал ему, что впервые ощутил это по многим ранним вещам. Вот хотя бы – «Как жаль, что вас не было с нами», где юная любовь, и чисто аксёновское море, и ресторанчик на берегу с джазиком (трое молодых людей, которых тянуло на импровизацию, – труба, контрабас и аккордеон – и рояль – старик, воспитанный совсем в иных традициях).
В. П. позабавило, что название этой повести в разговоре с кем-то я почему-то нечаянно «пристегнул» к фолкнеровскому рассказу «Полный поворот кругом». Даже поспорил на эту тему, доказывал недоказуемое.
Вася хохотал:
– Промазал!
Но ты смотри, убеждал я, там – то же буйство души, в которой «ни одного седого волоса»; этот мальчишка лейтенант Хоуп, этот ребёнок около шести футов роста, похожий на девушку и вечно поддатый, обижающийся на подколки лётчиков-пижонов и, не осознавая своего юного героизма, торпедирующий немецкие суда («бобры», как окрестил их Хоуп) – до чего же он твой с его полной, абсолютной независимостью, своеволием, дерзостью, музыкой спятившего мира!
– А что, – вдруг согласился со мной Вася, – пожалуй, ты прав, скорее всего, так оно и есть на самом деле, да и куда ж нам без Фолкнера; недаром Андрюша Тарковский поставил радиоспектакль по этой новелле и провёл идею: ни на кого не надейся, пока ты молод, от одного тебя, морячок, всё зависит!
В замечательной, страстной книге, посвящённой Майе[32], он чуть ли не кричал, доверясь ритмическому строю: «Пятнадцать лет долой! Я снова пьян, я снова молод, я снова весел и влюблён. Чувствую каждую свою мышцу, а неизвестный молодой мир зовёт под своды своих древних колоннад, под балконы и на водосточные трубы, меня, ТАИНСТВЕННОГО В НОЧИ…»