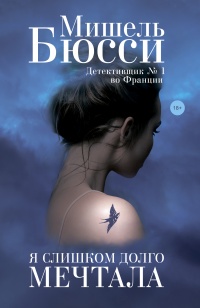Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Факты: через месяц после нашего прибытия в общежитие в Аренсфельде к нам примкнул папа и чуть позже снова уехал назад из-за моего старшего брата. Тот переселился в Берлин лишь через год после нас. Благодаря непобиваемой пробивной силе отца он смог приехать, хотя и без бессрочного разрешения на пребывание, как у нас, и, как мне казалось, без радости, какую ожидали от него родители. Он жил с бабушкой в Севастополе и проводил операции по жизненным показаниям – он уже начал работать хирургом в городской больнице, и там у него завязался роман.
Когда надо, он сопровождает меня в больницу, помогает с переездами, выслушивает – мы с ним хорошо понимаем друг друга, независимо от того, сколько лет, сколько сотен километров разделяют нас, как редко мы видимся и как мало говорим. Мой бывалый брат небывалой крутизны.
Помню бесконечное сопротивление, которое никак не выводилось из закона Ома U=RI и о котором никто ничего не мог узнать: Вы хотите меня провести? Куда вы меня ведёте? Очень похоже грело вечернее солнце, почти такие же были высотки, шофёр такси (автобус от вокзала Аренсфельде больше не ходил, а мы не знали толком, куда нам ехать) почти без акцента говорил по-русски. Но это была уже Германия, Берлин, пригородная дыра, всё безвозвратно другое.
Дыра – это преувеличение. Казарма. Бундесвер предоставил на своей территории компактную трёхэтажную панельку с двухкомнатными квартирками для беженцев по квоте, как было обозначено на нашем разрешении на пребывание. Каждая квартира состояла из двух маленьких комнат, крохотной кухонной ниши без окна, ванной комнаты без окна, но зато с водой, последнее нас впечатлило. По комнате на семью, то есть мать, Константин и я в одной комнате, и девочка, у которой как раз была ветрянка, с родителями в соседней комнате.
Днём раз в час автобус в город. Многие за год находили себе какую-нибудь работу, чаще всего не по специальности, осваивали структуру Берлина, снимали квартиру в Шарлоттенбурге, если могли заплатить квартирным маклерам, а если нет, то находили квартиру в Марцане, близлежащем районе. Это делалось без маклеров и погружало в такую вязкую бессвязность с псевдо-нашей местностью, что уже скоро после прибытия я начала мечтать о берлинском доме старой постройки – такой исторической субстанции, которая так и просит, чтоб её заполнили книгами.
Я снова выросла из всех одёжек, только свитер от мятно-зелёного спортивного костюма ещё годился. Меня одевали во что-нибудь из гуманитарки. Мои ново-старые джинсы пахли ванилью. Мне не нравилось носить брюки, перепавшие мне не от одного из моих братьев, а имеющие свою собственную, неведомую историю. Тем более я рада была унаследовать пуловер, прошедший обычный путь от старшего брата ко мне через среднего брата. Был ещё свитер в разноцветную полоску который моя мать связала за несколько вечеров из шерсти от разных распущенных вещей. Я хотела его носить, я должна была его носить, моя мать говорила, что специально для этой вещи она освоила тёплую норвежскую вязку, и я находила, что его сине-бело-красные полосы очень хорошо сочетаются с моей джинсовой юбкой (тоже купленной на «туче», и она красила мне ноги в небесный цвет) и добротными советскими хлопчатобумажными колготками красного цвета. Вот только одна проблемка появилась: голова никак не проходила в горловину. Одёжка, тем более ценная за счёт перевоза в Германию, больше не представляла собой никакой ценности. Ничего не поделаешь – и никто не виноват.
Дети и подростки в бывшей гэдээровской школе ненавидели русский язык, Россию. Любые признаки советского и постсоветского, казалось, были непростительны.
Привезённый с собой оттуда ширпотреб тянул ребёнка на дно, и он смертельно боялся стать изгнанником. Слепой щенок в Берлине, где беспризорных кошек и собак не встретишь. Придём домой, выпьем липового чаю и ждём, когда уже кончится эта затяжная минута молчания. Да, пока я не забыла: вдруг сразу появилось много еды, но всё было липовое, этот апельсиновый сок, первая опустошённая баночка с неладным шоколадным кремом, длинные огурцы, вкус которых был также растянут на всю их длину. Белый хлеб, для которого ещё требовался тостер, и всё равно он потом не имел вкуса белого хлеба. А к нему плавленый сыр, каждая пластинка упакована отдельно. Ещё при обнюхивании этот продукт заключал с тобой пакт об истреблении: как он ни вреден и как ни противен, а должен оказаться у тебя в желудке.
Дитя утешалось тем, что пыталось быть ребёнком, хотя бы играть в это, играя. Упаковки, которых раньше у продуктов почти никогда не бывало, а теперь после каждого похода в магазин оставалась целая гора цветных коробок – их можно было использовать в качестве мебели для куклы-пончика, контрабандно спасшей наше золотишко. Этот добрый старый и вечно юный пластмассовый пупс всё понимал, всё прощал, голова у него без проблем отрывалась. Но детская игра не шла, больше ничего не шло. Ароматизированный пакет от апельсинового сока сходил за кухонный стол, обёртка от плитки шоколада шла на скатерть, из другого тетрапака складывалась кровать. Только все эти вещи стояли вокруг, ничего не говоря, никакая история вокруг них не разыгрывалась. Они вдохновляли самое большее на то, чтобы переодеть кукол и уложить их спать.
Всё это пахло провалом.
Временами я играла с одним мальчиком на его приставке в Супер-Марио. Если не отвлекаться, одолевала печаль. Вот есть же родители, которые балуют своих детей, хотя бы и киндер-сюрпризом, как родители Ани и его родители тоже. Мне хотелось, чтобы его родители меня удочерили. Они хотели, чтобы я приходила к ним каждый вечер. Он хотел дёргать меня за косы и целовать. А я хотела Супер-Марио.
Лист календаря перевернулся – огромный оранжевый цветок. Я сижу на кухне у моих родителей в Веддинге и хлебаю щавелевый суп. Мой отец и мой сын нарвали зелёных стеблей у клиники Bonnies Ranch, которую мы называем «парк с лошадками», чтобы не вводить малыша в соприкосновение со словами «нервная клиника». Мать только что сварила суп, и дочь заехала «заправиться».
Мать вдруг вспоминает, что у неё было платье с такими цветами, как на календаре. Очень длинное, она в этом платье ходила и на работу, в службу связи. Что с ним стало потом? Износила. Или оно стало мало? Жаль, оно так мило сидело. Его шила ей Алла Михайловна, очень удачно. Вообще-то Алла Михайловна была учительница математики, но когда они жили на Сахалине, ей там некому было преподавать. И она закончила курсы кройки и шитья и стала отличной портнихой. Не помню ли я розовую юбку, из такой воздушной ткани, с подходящей блузкой получался летний костюм. (Конечно помню, в этом наряде она вечно была в дурном расположении духа, потому что куда-то спешила). Это тоже от неё, она дала матери выкройку, и мать по ней тоже шила. И чёрное платье с цветами тоже сшила она.
В чёрном платье с цветами она бывала непривычно мягкой. Оно шло к её тёмным волосам. Платье скрашивало её кошмары, её первый месяц тревоги, когда она была одна с Константином и со мной – первый раз, когда они с отцом надолго разлучились, если не считать их добрачных заочных отношений Винница – Петербург. Круговая оборка вокруг выреза по моде поздних 70-х годов подчёркивала что-то мягкое в её глазах. В первое время в «хаймс», как мы называли казарму, она часто его надевала. То время быстро прошло. Я так и не поняла, почему она его выбросила.