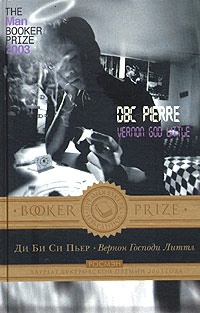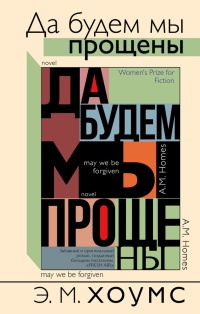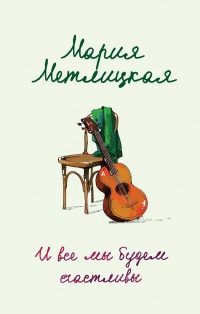Книга Профессор Криминале - Малькольм Брэдбери
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Благодарю вас, дорогой профессор Монца, — начал он, не дожидаясь, пока перед ним установят микрофон. — Давайте прямо сразу и разберемся с пресловутыми взаимоотношениями литературы и политики. Никаких взаимоотношений между ними нет и не было. Власть организует, литература разваливает. Власть стремится к монологу, литература — к диалогу. Литература разрушает то, что создано властью. Две эти дамы не способны по-человечески общаться друг с другом, в чем все вы уже имели возможность сегодня убедиться, если, конечно, вообще пытались поговорить с соседом».
Аудитория нервно захихикала, а бедный профессор Монца совсем сник. Да и не он один — как-никак большинство собравшихся перлись за тридевять земель именно для того, чтобы обсудить растоптанную оратором тему.
«Вы, конечно же, знаете, что мой досточтимый венгерский коллега Дёрдь Лукач придерживался иной точки зрения по этому вопросу, — продолжил Криминале, вновь упомянув это сакраментальное имя. — Для него искусство не существовало без идеи, идея создавала политику, а политика конструировала реальность, причем наиправильнейшую из всех реальностей. Правильная идея — правильное искусство. Но, скажите мне, где сегодня правильные идеи досточтимого Лукача, где его правильная реальность? Плывут себе вниз по Дунаю, двигаясь в никуда. Затянувшийся монолог власти, имя которому — марксизм, окончен. Мы вступили в эпоху плюрализма, эпоху, лишенную того, что Гегель назвал Абсолютной Идеей. Кажется, впервые человечество устремляется по дорогам истории, не вооружившись генеральной идеей, а это все равно что плыть по Атлантическому океану без карты. То есть дело вполне возможное, но обреченное. Дай бог в живых остаться, а уж попасть в порт назначения и не мечтай. Вы попросили меня, философа, приехать сюда и объяснить, как человеку жить в мире, лишенном идеи. Что ж, в одном Лукач был прав, и тут не поспоришь. Искусство, литература возникают не сами по себе, а принадлежат своей исторической эпохе и не могут быть от нее свободны. Давайте же зададимся вопросом — что представляет собой наша с вами эпоха? Во дворе парижского Бобура, — вы знаете это сооружение, оно поступило с архитектурой примерно так, как поступил бы Господь Бог с человеком, если бы разместил его внутренности поверх кожи, — так вот, там есть часы, которые называются Женитрон. Те самые, что отсчитывают секунды, оставшиеся до 2000 года. Иногда я стою перед этими часами, затерявшись меж клоунов и изрыгателей огня, и задаю себе такой вопрос: что будет, когда Женитрон дощелкает последние секунды и остановится? Мы все нацепим майки с надписью 2001, споем хором оду «К радости», и все будет расчудесно? Или, наоборот, мир провалится в тартарары? Кто даст ответ на этот вопрос? Где наши шопенгауэры, гегели, марксы? Где новоявленные пророки? Кое-кого из них мне удалось обнаружить. — Криминале помахал в воздухе потасканным журналом. — Издание для авиапассажиров, от щедрот компании «Алиталия». Я листал его, пока мы летели сюда... Откуда мы летели, дорогая?» «Из Рангуна, мой сладенький», — громко сказала Сепульхра «Неужели правда из Рангуна? — удивился философ. (Смех в зале.) — Впрочем, это неважно. Редакция провела опрос среди выдающихся деятелей современности, включая Папу римского. Вопрос был такой: как они представляют себе человечество за гранью 2000 года? Одним из пророков стал британский писатель Энтони Бёрджесс. Цитирую: «Я полагаю, что мы откроем новые миры, научимся перемещаться во Вселенной и перенесем великий эксперимент, именуемый Жизнью, в еще одно измерение». Что ж, по крайней мере видно, что литератор читал Тейяра де Шардена А вот еще одно мнение. Принадлежит оно несравненной диве Тине Тернер. Вы, конечно, все ее знаете. «Я хочу, чтобы следующее десятилетие было наполнено любовью и музыкой, — вещает певица. — У меня выйдет новая книга, она будет называться «Я — Тина», и по ней обязательно снимут фильм». Вот так и открывают новые миры».
В зале хохотнули, но многие из гостей переглядывались, не понимая, к чему клонит оратор. «Итак, кто же из пророков прав? — продолжал Криминале. — Сто пятьдесят лет назад появился «Манифест Коммунистической партии». Все помнят, как он начинается: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». В наши дни призрак коммунизма уже угомонился, больше не бродит. Какой же призрак стращает ныне бедную Европу, а вместе с ней и весь мир? Призрак удручающего переизбытка и острейшего дефицита. Мы живем в эпоху, когда вокруг всего полно и в то же время удивительно пусто. Культура превратилась в шоу, дизайн, непреходящий шоппинг. Писатель Бёрджесс парит в безвоздушном пространстве, а Тина Тернер любуется собственной персоной. Надеюсь, дорогие друзья, что недели в Бароло окажется достаточно, чтобы примирить Бёрджесса и Тину, подружить литературу с властью, идею скрестить с хаосом, а заодно неплохо бы еще и подлатать распадающуюся ткань Европы, утихомирить воспалившийся национализм, избежать столкновения с исламским миром и не забыть решить проблему «третьего мира». Если вам все это удастся, можете считать, что потратили время не зря. Это все, что я хотел сказать, благодарю за внимание».
Слушатели, разумеется, похлопали. Как-никак знаменитость, почтил присутствием, хоть и опоздал, но все же поприветствовал. Однако, направляясь в соседнюю гостиную, где подавали кофе, я ощущал витавшие в воздухе растерянность и недовольство. Философ соизволил выйти к толпе, но вести себя как подобает философу не пожелал. Ко мне присоединилась исходившая лютой злобой Илдико. Ужин не доставил ей ни малейшего удовольствия. Один из ее соседей оказался сотрудником Госдепартамента и все время нудил про уругвайский раунд переговоров по таможенным тарифам и торговле; второй, скандинавский поэт, пытался прельстить ее фотопортретами своего пениса. Илдико так и не решила, кто из собеседников был большим занудой. Речь Криминале ей тоже не показалась. «Зачем он это говорил?» «Чтобы мы задумались, нужны ли человечеству великие идеи?» — предположил я. «Он вечно нападает не на то, на что надо». «Это ты о Лукаче?» «Ах, кому сейчас интересен этот Лукач, — отмахнулась Илдико. — Но зачем он нападает на шоппинг?! Чем ему шоппинг-то не угодил?»
Гнев Илдико не иссяк и тогда, когда притомившиеся участники конференции принялись желать друг другу спокойной ночи и расходиться. Мы шагали по направлению к Мемориальной купальне, и я уныло думал о предстоящей ночи, которая не сулила наслаждений. Держа дистанцию, мы прошествовали по озаренной факелами террасе, спустились в парк, где сияла луна и слегка покачивали кронами деревья. Внезапно Илдико замерла на месте. Возле неодетой мраморной Минервы маячила коренастая фигура, чуть подсвеченная огоньком сигары. «Криминале! — прошептала Илдико. — Что это он тут, интересно, делает? Кого-нибудь поджидает?» Я огляделся — вроде бы никого. «Вот он, твой шанс», — сказал я. «Неудобно, он о чем-то размышляет», — неожиданно застеснялась Илдико. «Да ты что! Мы столько за ним охотились! Давай-ка представь меня ему». «Не хочу», — упорствовала Илдико, но тут Криминале обернулся, увидел нас и приветственно помахал сигарой. «Превосходная речь, мистер Криминале», — воскликнул я. «Не из лучших моих речей», — ответил профессор, поглядев сначала на меня, а потом на Илдико. По-моему, он ее не узнал. «Зря вы так про шоппинг, — укорила его Илдико. — А это Фрэнсис Джей, он из Англии».
«Англичанин? Как странно. А я вот стою и вспоминаю историю о том, как Грэм Грин остался без Нобелевской премии. Знаете почему?» Поворот беседы меня удивил, но к великим нужно быть снисходительными — это знает каждый. «Нет, мне неизвестно, почему Грэм Грин остался без Нобелевской премии», — ответил я. «Возможно, история недостоверна, но я все равно расскажу. — Криминале отвернулся и снова стал смотреть на озеро. — Однажды, находясь в Швеции, Грин переспал с некоей дамой. Казалось бы, что такого? Все мы время от времени наведываемся в Швецию и стараемся показать там, какие мы современные. Или я не прав?» «Наверно, так оно и есть», — не стал спорить я. «Однако у дамы в родственниках числился один почтенный профессор, член Шведской академии, той самой, которая присуждает премии. И профессор ужасно разозлился и дал торжественную клятву, что, пока он жив, Грину Нобеля не видать». «Очень романтично», — вздохнула Илдико. «Я придерживаюсь того же мнения, — кивнул Криминале. — Оба оппонента дожили до весьма преклонного возраста. Очевидно, ни один не желает сделать своему врагу приятное и старается его пережить. Премию все эти годы давали кому попало — Перл Бак, Бертрану Расселу, даже этому вашему Уинсгону Черчиллю, но только не Грину. Величайший писатель столетия остался без главной литературной награды — и все из-за одной приятно проведенной ночи. Я вот спрашиваю себя, а если бы на месте Грина довелось оказаться мне и я бы точно знал, чем придется расплачиваться за небольшой кусочек радости, как бы я поступил? Что бы выбрал — женщину или премию? Дилемма не из легких, а?» «И что же вы себе ответили?» — полюбопытствовала Илдико. «Не знаю, дорогуша, — вздохнул Криминале. — Слава — штука хорошая, но любовь так чудесна... А вы, судя по акценту, из Венгрии». Илдико ответила ему что-то на своем родном языке, и между ними завязалась недоступная мне беседа. Окна виллы гасли одно за другим. По террасе проплыла женская фигура и растворилась в темноте. Криминале бросил окурок и раздавил его каблуком. «Однако пора на покой, готовиться к следующему утру, предстоит выдержать еще один конгресс. Рад был познакомиться с вами обоими. Наслаждайтесь здешним парадизом». Он покивал своей львиной головой и отбыл, весь лучась переливчатым голубым шелком, по направлению к вилле.