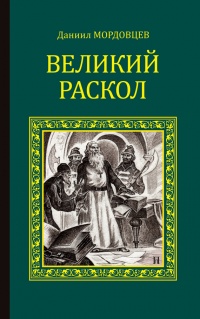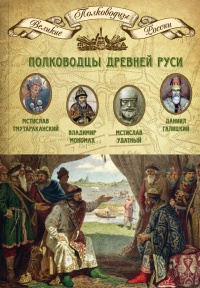Книга Лжедимитрий - Даниил Мордовцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Молодой царь, бледный как полотно, в полном облачении, словно златокованая икона, сидит на престоле. Молодое личико в массивном, блистающем камнями венце кажется совсем детским.
По обеим сторонам престола, с иконами в руках, стоят — мать царя и сестра Ксения: об эту святыню должна разбиться народная ярость.
Нет, не разбилась! Бедные дети!
— А, Федька, воровской сын, отдай царское скифетро! — раздались голоса.
— Долой с чужого места!
И толпа с угрожающими жестами подступила к престолу. С визгом, как укушенная собака, мать-царица, с иконой впереди себя, ринулась на толпу, силясь заслонить собой сына. Несколько здоровых рук, словно клещами, сжали её слабые женские руки, и икона с грохотом упала на пол.
— Ой, братцы! Образ — подыми бережно.
— Долой с чужого места!
— Скифетро отдай!
Бледного юношу царя сволокли с престола. Ксения, стоя в стороне с образом, плакала, дрожа всем телом. Её никто не тронул.
Мать-царица, освободившись от живых клещей и видя, что сына её ведут, снова бросилась на толпу, и снова была оттолкнута. В ослеплении ужаса она срывает с шеи драгоценное жемчужное ожерелье и отчаянно вопит:
— Возьмите это! Ох, берите всё, только не убивайте его! Батюшки! Светы мои!
— Не бойся, не убьём — рук не станем марать, — огрызнулся кто-то в толпе.
— Не душегубь, робята! — раздаётся ещё чей-то голос.
— Сказано — не будем.
И царя, и царицу-мать, и Ксению вывели из Грановитой палаты. Офеня с трудом протискался до Ксении и всё шептал тем, которые вели её:
— Полегше, робятушки, Бога для! Не трожьте её, не зашибите дитю неповинную... Полегше, голубчики, помягче, Христа ради!
Толпа рассеялась по дворцу. В одной комнате наткнулись на двух прежних посланцев Димитрия: на них были следы пыток и истязаний, тело их было иссечено, изожжено. От этого зрелища народ окончательно озверел, но всё-таки не пролил ни одной капли крови.
— А! Вот они что делают — Годуновы-то! Людей пекут! Вот какое их царство! И нам бы то же досталось.
— Разноси, робятушки, всё по рукам, ломай дочиста. Всё это нечистое — Годуновы осквернили.
— Валяй, братцы! Не жалей! Новому царю всё новое сделаем.
И началось разрушение... Дворец опустошили, всё, что можно было изломать, уничтожить, разбить, разнести — изломали, уничтожили, разбили, разнесли...
Двадцатого июня 1605 года вся Москва собралась встречать своего чудом спасённого и словно бы из могилы вышедшего царя. Какой яркий день, какое жаркое солнце, как жарко горят золотые маковки московских церквей, как весело смотрят всегда хмурые кремлёвские стены, унизанные народом, словно пёстрыми гирляндами цветов! Всюду, куда ни обращается взор — живое колыхающееся море голов человеческих, мало думающих, но жадных ко всякого рода зрелищам. Колышется море этих голов и по улицам, и по площадям, колышутся живые изгороди из голов на стенах, на заборах, в окнах, на крышах домов, даже по карнизам и у самых куполов церквей. А возвышенный берег Москвы, что к Серпуховским воротам, словно вымощен живым булыжником — московскими головами.
Скоро, скоро покажется невиданный, негаданный царь. Москва все глаза проглядела, выжидая его с самого раннего утра и готовая ждать до глубокой ночи.
Тут все наши знакомые — толкаются в живой толчее: и офеня Ипатушка, суздальский иконник, и толстый купчина с серёжкой в ухе, толковавший своему соседу, глуховатому старику, когда читали на Лобном месте анафему Гришке Отрепьеву, что орлиное перо — царское перо, и Теренька с рыжим плотником, рассказывавшим о событии в Угличе и ныне посрамлённом, и саженные плечи из Охотного ряда, и ражий детина из Обжорного ряда, которого так занимало скифетро.
Офеня, которого неустанные ноги успели за это время сносить в Тулу вслед за выборными от Москвы — князем Иваном Михайловичем Воротынским и князем Телятевским, отцом Оринушки, возившими к Димитрию повинную грамоту от всех московских людей, — офеня теперь был центром, около которого теснились любопытствующие москвичи в ожидании царя.
— Так ты его, Ипатушка, чу, и в Туле видал? — любопытствует купец с серьгой.
— Видал, кормилиц. Бояр это он на глаза к себе пущал, что с Москвы приехали челом бить да повинную принести — Воротынской князь, да Телятевской, да Мсгаславской, да Шуйские. Так маленько он их ошпарил.
— Что ты? Как ошпарил?
— Да во как. В ту пору с Дону пришёл атаман Смага с казаками, так он Смагу-то этого да Корелу-атамана, что в Кромах сидел, допреж бояр к руке своей допустил... А и так себе — непутящий и народ, казачьи атаманы-то эти: ни князи они, ни бояра, а вон боярам-то нос утёрли.
— Ишь ты, вавилония какая! Почто, значит, Бориске служили.
— Верно — вавилония. Так князи-то словно раки печёные стояли. А и сам-от он, царевич, гораздо добер. Сказывал мне Григорий Отрепьев.
— Это Гришка-то расстрига?
— Он самый. При ём он состоит, аки дьяк, не то жилец. Так сказывал. Привезли это к ему с Москвы грамотку от покойничка, от Фёдора Борисыча, когда он ещё царём был. Пишет это он: «Благоверный-де государь, Димитрий Иваныч всея Русии. Прости-де меня, окаянного. Не я-де причинен в кровопролитьи российском, а блаженные памяти родитель мой, Борис Фёдорыч: он-де на тебя зло мыслил, а не я. Я-де уступаю тебе честь и место — ты-де законный царь. А я-де пью чашу смерти — зелье отравное. Бог-де да благословит тебя на царство...» Так чел это он, царевич, грамотку-то эту, а слёзы у него в три ручья — так и льют, так и льют, что зачем-де Фёдор Борисыч живота лишил себя — смертное зелье принял...
— Что ты, дедушка! — вмешались саженные плечи. — Федор-от не пил смертного зелья, а его удавили.
— Помилуй Бог!
— Верно, дедушка. Мне это дело сведомо — сам стрелец Якунько сказывал. Дело было так: приходим-де мы, сказыват Якунько, — я да ещё двое стрельцов, Осипко да Ортёмко, да дворяне Михайло Молчанов да Шерефединов, — приходим-де, гыт, к ним, Годуновым, в палаты. Старуха-то царица Годуниха и ну де вопить в истошный голос. Плачет-де и девка, дочка Оксинья. А и красавица-де, говорит, писаная: кровь с молоком да ещё и с сахаром. Жалко, гыт, стало её — дрожит вся, сердешная. Мы её, гыт, тихонько на руки, да словно пёрышко снесли в другой покой и отдали мамушке — береги-де голубку чистую. А сами к ним — к старухе да к сыну. Развели и их. Старухе-то петлю на шею — так только-де захрипела: «Федюшка-де да Оксиньюшка» — на том и отошла. Мы, гыт, к ему, к молодому. А он, гыт, детина дебелый, сбитень такой, кулачистый гораздо, — да, гыт, в зубы! Осипко-то и свались. Ортёмка к ему — он и Ортёмку в салазки: и Ортёмка тычком. Так я, гыт, по-пёсьи — как псы медведя берут: я его, гыт, за тайный уд — да и ну давить. Он и посинел. Тут Осипко-то очунял маленько, да дубиной его в темя — так и захрипел боровом, вытянулся. Мы, гыт, на его петлю — и довавилонили раба Божия. Так-ту, дедушка, дело было. Годуниху с сыном удавили.