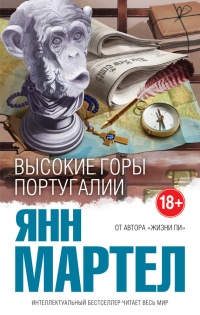Книга Солнцедар - Олег Дриманович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Особист», «шило», «прочный корпус», «бочки»… Растёбин понимал с трудом, но щёки для порядка пыжил, мысленно угрызаясь: хреновый из меня переводчик, хреновый. Алик тем временем плескал из быстро пустеющей бутылки в стаканы, семенил к бочкам, проливая на пальцы и палубу.
— Што ль за знакомство? — каптри возносил граненный над головой, — штабной не штабной, считай, сейчас ты из подплава. В подплаве, запомни, все равны, каблуками не щёлкают, каст нет, на всех одного пошива эр-бэ, на всех один прочный корпус, что в перспективе — одна могила. А этот дизелятник, — кивал на Мурзянова, — вообще в первом отсеке в обнимку с торпедами спит.
В Никитиной голове происходила нехорошая раздвоенность. Впервые вровень со взрослыми, да еще с какими. Впервые на расстоянии вытянутой руки от настоящей свободы. Но портупея придуманной роли сковывала, тянула на взлёте к земле. Всё предусмотрел отец, мог же в любой гражданский санаторий определить, но нет, таким манёвром даже за тысячу километров он словно держал сына на поводке, в ошейнике придуманной легенды, обязывающей помнить о дисциплине и самоконтроле.
А дизелист, как назло, поднимал тост за какую-то свободу. Сначала остатки вина на нее извёл, затем подключил шило.
— Прощай, железо, прощай, подплав, глуши ГЭУ и испарители!
Железо, прочный корпус — субмарина — первое, что Никите удалось расшифровать.
С шилом посложней, совсем другая опера. Отчего вдруг шило? Разве что спирт неслабо дырявит глотку?
— От-того, что не утаишь, — хитро лыбился Ян.
Оба пили жадно, будто торопя беспамятство. На тосты мичманские каптри лишь попыхивал сигаретой. Задумчиво улыбаясь сквозистой зеленью глаз, спрашивал друга:
— Мурз, а на что тебе вольная? Ты ж не заметишь — проимеешь.
— А тебе? Или передумал с рапортом?
— Что даром прилетает, не ценим, закон Бойля-Мариотта.
От спирта Никита совсем сломался, тужиться с переводом никак не выходило, но суть пикировки вроде уловил. Хоста была их последним походом. По возвращении друзья решили подавать рапорта. Дембельская свобода — вот за что поднимал тост Алик. 91-й стал первым годом, когда Родина даровала своим защитникам вольную — право уйти на гражданку по собственному желанию.
Весь день, безвылазно, забыв о завтраке, обеде, ужине. Арбуз, консервы, сухой лаваш — «королевская закусь». По двадцатому разу за знакомство, обмывая его вином, спиртом, какой-то свирепой бормотухой, хранившейся у запасливых водяных на опохмел за батареей. Растёбин не отставал, старался держать штабную марку, не ударить в грязь лицом. В итоге, встав из-за стола, не почуял ног, и с тяжёлым креном свалился до следующего утра на ближайшую кровать, ударив-таки физиономией во что-то слякотное.
Рассвет сбродил в знойный полдень. Пронизанные солнцем, свекольного цвета шторы пылали на сквозняке, даря ощущение, что он несётся прямиком в раскалённую жаровню. На подушке рядом лежала прохладная арбузная корка. Во рту сухмень. Поднялся. Соседей не было. Двинул в ванную, пустил из крана студёную серебристую стрелу. Хлебнул, сунул под неё голову. Стрела навылет прошила затылок. Блаженство. Где-то там ждало море, до которого он вчера так и не добрался. Хотелось есть. Завтрак, похоже, он опять проворонил. Правда, мысль о море студёное блаженство усиливала, ощутимо голод заглушая. Проходя мимо неубранного стола, макнул в томатные бычки осколок лаваша, отправил в рот. Натянув шорты, футболку, вышел из номера.
Навстречу проплывали отпускники — разомлевшие после моря чины в трениках, спортивных трусах, влажных плавках. Пузатые и подтянутые. Одинокие и с семьями. Этот — полковник, а этот, наверное, майор. Есть ли тут, интересно, генералы? Генералы, похоже, прятались от жары. Зато дети были кругом. Офицерские чада, казалось, даже резвятся и проказничают дисциплинированно. Офицерские жёны выглядели как обычно — ухоженные, хлопотливые, с осанкой, проговаривающейся о звании мужей. Народ тянулся с пляжа, спасаясь от полуденного пекла. А он в пекло спешил, по широкой белокаменной лестнице, обрывающейся где-то там, внизу эстакадой и зубчатым частоколом кипарисов, поверх которых плавилось ветреное серебро моря. Лестница нырнула под шоссе, штыки кипарисов расступились, и громада моря дохнула своей бесконечностью.
От избытка распиравших чувств захотелось закричать. Стеснение ли, зажатость — с губ только жалкий выдох сорвался. Как всегда в подобные сильные секунды, внутренний надзиратель — его заткнул.
Две недели — вполне достаточный срок, чтобы яркость первых впечатлений смыло привычкой. И всё же острота тех ощущений была пронзительной настолько, что и потом он всякий раз замирал при виде безбрежного простора. Уверен был — соседи его треплются, скептически заявляя — мол, хлябь морская для подводника, как грязь для танкиста, и вообще, нет такого моря Чёрного — лужа. Он-то видел, как эти двое тянут ноздрями солёный воздух и жадным прищуром цедят морскую даль.
Первый день Никита провёл у воды до сумерек. Купался, загорал; остужая ступни джигой, взбирался по гальке на пирс отпаиваться Тархуном и Нарзаном. Едва рассол на коже подсохнет, лез обратно в море, бодая волну. Плавал он неважно, но в этой упругой влаге удержался бы на плаву и топор. Нахлебавшись, усталый и счастливый, валился на лежак и смотрел сквозь калейдоскоп мокрых ресниц, как местная пацанва ныряет с двухъярусного волнореза. Особо смелые карабкались на самую верхотуру сварных перил и, чиркая макушкой солнце, срывались вниз горячей искрой окалины.
— Катамараны, лодки, возможна встреча с дельфинами! — зазывала лодочная станция.
Плебисцит
Только в номере понял, что испёкся — кожа пошла лоскутами. Солнце, словно в насмешку, украсило его эполетами: два сырых пятна с рваной окаёмкой алели на плечах. Подводники тем временем совершали очередное погружение. Сегодня для заполнения балласта был выбран трехзвёздочный коньяк. Смотались в Хосту, у вестибюля разошлись. Ян ловил, свесившись с подоконника, Алик пузырил.
— Дискобол, блин. Запузырил куда-то в стену, еле поймал, — выговаривал мичману Позгалёв, впрочем, безгневно.
К приходу Растёбина с четверть бутылки уже обрезали. Сразу налили, подовинули: «Давай, переводчик…», — и у Никиты по пищеводу взошла тошнотной волной голодная изжога. Покатал в пальцах стакан, пригубил, отставил. Друзьям, слава богу, было не до него, друзья явно куда-то намыливались. Алик распечатывал новые носки. Каптри, лупцуя свои крепкие скулы, обильно поливался одеколоном.
— И как оно, Чёрное? — озарил своей ироничной улыбкой Ян.
— Да обгорел, вон…
— Ну так, тридцать — из радиоточки, все сорок — в тени. Ничего, мы тоже бледными спирохетами приехали.
— Ты давай не обобщай, — Мурзянов, въезжая в свежий носок.
— На дизелях они от соляры по уши загорелые, — уточнил Позгалёв, весело, по-свойски, подмигивая Растёбину.
— Между прочим, ты с нами, штабной. Никаких отговорок, — капитан хлопнул надушенной ладонью по его обваренному плечу, и Никита аж присел от боли.