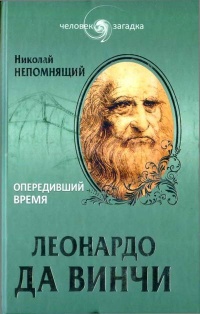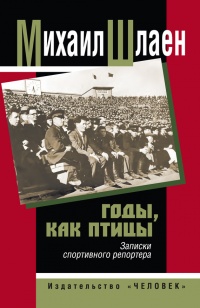Книга Булат Окуджава - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эта порода подспудно жила рядом с ними, ощущалась, готовилась высунуться. Булат с детской чуткостью различал ее вторжения. В тридцать седьмом она взбунтовалась – и упразднила театр. Его разнесли зрители.
Разумеется, вечно это продолжаться не могло. Но впереди у Окуджавы были двадцать лет мрака. Жизнь Дориана, звездного мальчика, счастливого принца, на этом закончилась. Началась жизнь изгоя, скитальца, солдата.
Странно, что за это время он не отучился надеяться.
ДВОРЯНИН ВО ДВОРЕ
1
Историк Георгий Кнабе в 2001 году посвятил памяти Окуджавы статью «Конец мифа», в которой первыми архитекторами арбатского мифа названы Осоргин, Зайцев, Бунин, тоскующие в эмиграции по типичнейшей московской улице и сети оплетающих ее переулков. До советского читателя эта ностальгия докатилась во второй половине пятидесятых, когда начали печатать и комментировать эмигрантов (прежде всего Бунина). Тут подоспел и Окуджава со второй волной арбатской мифологии – при этом автор статьи развенчивает реальность, пожалуй, чересчур жестко: «Выяснилось, например, что прототип Леньки Королева был просто хулиган и мерзавец, что „на арбатском дворе“ были не только „веселье и смех“ и не только „играла радиола“, но рядом с золотым и куча подлого. При этом – классическая черта мифа – осознаваясь как вымысел, тот же Арбат продолжал сохранять привлекательность, чем дальше уходил от реальности, тем упрямее окутывался в элегические тона». Конечно, никаким мерзавцем реальный Ленька (Гаврилов) не был, а что до хулиганства, то тихони во дворах не выживали: они либо пробирались через них бочком, либо мутировали, обрастая корой, адаптируясь к местным правилам. Кнабе прав в ином: дворы жили мыслями о войне, готовностью к ней. Характеры московских добровольцев отковывались там: «Живя в сознании, миф проникал в действительность и формировал ее. В 1941-м он привел в бесконечные очереди перед военкоматами тысячи жаждавших записаться добровольцами арбатских ребят – из 7-й школы с Кривоарбатского, из 9-й со Староконюшенного, из 10-й с Мерзляковского, из 29-й с Дурновского».
Школа в Дурновском (ныне улица Композиторов) носила в действительности номер 69. Это была новостройка: как вспоминал впоследствии одноклассник Окуджавы Павел Соболев, в Москве в 1937 году открылось около ста новых школ – как говорили, под будущие госпитали. Вряд ли советская власть столь прицельно готовилась к войне, но школы, большие, светлые, по типовому проекту, строились. Окуджава после возвращения из Нижнего Тагила пошел в пятый класс школы № 107, что в Кривоарбатском переулке, а 1 сентября 1937 года был переведен в новостройку. Школа эта сейчас носит имя Окуджавы, но находится уже не на Арбате (старое здание снесено при строительстве Калининского проспекта), а на улице Кулакова в Строгине. Есть там и маленький музей поэта – фотографии, воспоминания одноклассников.
Воспоминания Соболева рисуют совершенно иной, непривычный облик Булата: Иосиф Бак вспоминал заводилу, лидера, даже и хулигана, а Соболев рассказывал: «Часто прятался куда-то в уголок, тише воды, ниже травы. На семью-то обрушились репрессии, отца расстреляли, такое даром не проходит. Ездили мы вместе в Сокольники с ружьишком. Снежок выпал, каникулы начались зимние. Наберем лампочек перегорелых от радиоприемников и стреляем по ним. На Собачьей площадке тир был, в который мы вылезали прямо через окошко от Коробкова Юры». Только с Коробковым, Соболевым да еще с Борисом Мартиросовым Окуджава и сошелся в классе. В школе, впрочем, он появлялся все реже и неохотнее, а учился так, что остался в седьмом классе на второй год. Истинная жизнь проходила во дворе.
Надо сказать несколько слов об арбатском дворе – том самом, которому посвящено столько стихов и песен Окуджавы, столько его устных ответов на записки и монологов в интервью. Даже пылким поклонникам Булат Шалвович намозолил глаза своим Арбатом, превращенным с его легкой руки в главный символ Москвы. В конце концов это муссирование арбатской темы бумерангом ударило по самому Окуджаве да и по Арбату: из улицы решили сделать витрину и в начале восьмидесятых превратили ее в пешеходную зону с развесистыми фонарями (тут же пошла гулять острота «Арбат офонарел»). В действительности Окуджава жил на Арбате недолго, в общей сложности десять лет – с 1924-го по 1932-й и с 1938-го по 1940-й; в сознательном возрасте – только эти два с половиной предвоенных года, которые его и сформировали.
Арбатский двор, как и любой московский, не был идиллическим местом. Слово «дворовый» никогда не имело в русском языке положительных коннотаций. Иное дело, что, называя себя «дворянином с арбатского двора», Окуджава имел в виду свой особенный статус – статус гордого люмпена, разоренного, утратившего все и с отчаяния кинувшегося самоутверждаться среди низов. В прочих сферах жизни господствовали иные иерархии, там для успеха требовались ложь и приспособленчество, и только во дворе еще возможно было самоутвердиться за счет подлинной храбрости и безрассудства. Главное же – во дворах не давали в обиду своих. Там соблюдался строгий, хоть и откровенно блатной кодекс чести: «наш» – не трогай. «Чужой» – уноси ноги. Отсюда некоторые – назовем вещи своими именами – неотменимые черты блатного кодекса в интеллигентской, особенно шестидесятнической, морали: отношения «свой – чужой» здесь важнее отношений «правый – неправый». Часто случается слышать от старых диссидентов-лагерников, что блатной закон гуманней и справедливей административного. Когда Юлий Ким написал свою «Блатную диссидентскую» – «Мы с ним пошли на дело неумело», – он не так уж и преувеличивал. «Интеллигенция поет блатные песни», – с осуждением сказано в хрестоматийном стихотворении Евтушенко; да какие ж ей и петь, при ее-то биографии?
«Заметим, что в эпоху, когда народ был подвергнут насильственной маргинализации, а арест и тюрьма стали чуть ли не обязательными элементами существования, – сдержанно пишет Раиса Абельская в уже упоминавшейся статье о блатных корнях окуджавовской песни, – было бы странным, если бы в стихах поэта, столь чуткого ко всякому песенному творчеству, не отразились бы перемены в народном мировосприятии, обусловленные неизбежным в таких случаях „облатнением“ сознания». В некотором смысле Окуджава произвел революцию – дал интеллигенции другие песни вместо блатных; но дворовый кодекс в них сохранился в неприкосновенности, и не зря он – всю жизнь открещиваясь от упреков в приблатненности, прервав концерт, когда его по ошибке в Мюнхене попросили спеть «Гоп со смыком», – написал-таки свой «Гоп со смыком» в 1992 году. Это там были горькие и точные слова: «Слишком много стало сброда, не видать за ним народа, и у нас в подъезде свет погас». И двору – как символу кастовой сплоченности – он оставался верен до конца, написав обо всем своем поющем цехе: «Как наш двор ни обижали – он в классической поре».
Поскольку почти вся интеллигенция (кроме небольшого прикормленного отряда) в советской России была гонима или по крайней мере подозреваема, в ней легко укоренялись вынужденно-приблатненные повадки: априорное недоверие к официозу, «начальникам», гордость от сознания непричастности к ним, презрение к «ссучившимся», продавшимся за пайку; соблазн «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» был знаком немногим и строго осуждался молчаливым большинством. Штука в том, что большая часть этой городской интеллигенции, составившей впоследствии славу русской культуры, воспитывалась именно во дворах, где господствовали отнюдь не ангельские нравы, – но культ двора стал общим местом шестидесятнической мифологии именно потому, что это был последний бастион, противопоставленный официозу. Во дворе правила есть, и даже слишком жесткие; предательство здесь – самый страшный грех. И потому для всех, чьи родители репрессированы, двор становится последней защитой: в школе тычут пальцем – «троцкист», «сын врага народа»! Но во дворе ты остаешься своим, потому что здесь другие идентификации.