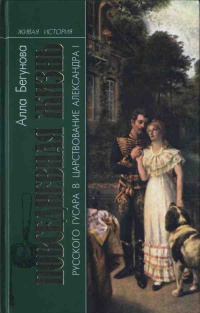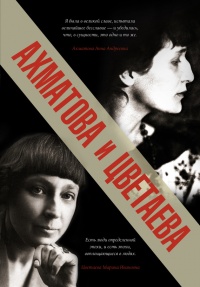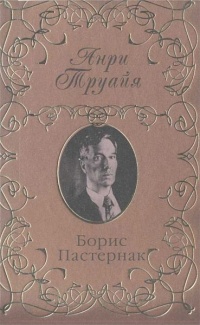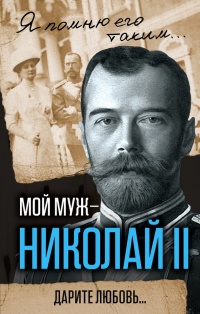Книга Борис Пастернак - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вернувшись в Москву, Пастернак получил от Лундберга, всегда старавшегося ему помочь заказом ли, подвернувшейся ли вакансией,— приглашение поехать вместе с ним поработать на химические заводы на Урале. Это было то, что надо: абсолютная новизна, и биографическая, и географическая. Сам Лундберг тоже не имел опыта конторской работы, но дружил с Борисом Збарским, главным инженером химических заводов во Всеволодо-Вильве. Их связывало революционное прошлое. Пастернак взял расчет у Филиппов, порекомендовав вместо себя Алексея Лосева, только что окончившего университет: впоследствии Лосев, автор «Диалектики мифа» и «Истории античной эстетики», стал последним в ряду титанов философского ренессанса начала века.
Пастернак выехал на Урал сильно простуженным, но долечиваться в Москве не стал — так торопился начать новую жизнь, которой ему предстояло прожить около года.
5
Збарский взял его помощником по финансовой отчетности. Боброву в апреле шестнадцатого Пастернак писал не без вызова:
«Для меня многое изменилось с тех пор, как мы по-настоящему виделись с тобой в последний раз. (…) В одном только я уверен: пускай и благодатен был уклад старинной нашей юности, плевать мне на его благодатность, не для благодатности мы строены, ставлены, правлены. Еще мне нечего печатать. Когда будет, скажу. (…) И это только меня самого лично касается. Никому до этого дела никакого нет. А думаешь ты, что это для отводу глаз говорится,— Бог с тобой, думай себе на здоровье».
Пастернак не церемонится с прошлым. Урал оказался спасительной паузой: можно было сменить кожу и набраться сил.
В его мире шесть, по-бахтински говоря, хронотопов — в них развертывается действие всех без исключения его сочинений. Вот эти опорные точки: Москва — хаотический город, путаный, как пастернаковский синтаксис, эклектичный, как его лексика, щедрый, как его дарование. Подмосковье и вообще средняя полоса России — прежде всего, конечно, Переделкино: леса, железнодорожные станции, «поле в снегу и погост». Юг России — степи и плавни, Ржакса и Мучкап, раскаленный летний мир «Сестры моей жизни». Кавказ — горы, море, пиршества. Европа — прежде всего Германия, где он бывал за жизнь четырежды (в прочих странах — всего по разу и мельком). И наконец — Урал, особое символическое пространство, олицетворяющее для него Россию рабочую, промышленную, крестьянскую и вообще, в соответствии с его представлениями, «настоящую». Его поездка на Урал была сродни чеховскому бегству на Сахалин: попытка географического выхода из психологического кризиса, побег из мест, где все стало ничтожно,— в места, где все кажется крупным и подлинным. Для русской литературы это характерный выход — благо пространства хоть отбавляй. Пушкин в 1833 году едет в Оренбург, якобы писать «Пугачева»; Толстой сбегает от себя то в Арзамас, то на кумыс, Чехов на пике блистательной литературной карьеры без видимой причины бросается на каторжный остров (и губит здоровье, вброд перебираясь по разлившимся рекам)… Тоска по суровой подлинности ясно различима у Пастернака в стихах «Урал впервые»:
Здесь все огромно, по-маяковски чрезмерно и катастрофично, но и по-пастернаковски свежо и радостно — потому что если все катастрофы Маяковского самоцельны (гори все огнем), то у Пастернака в этой катастрофе, как в тигле, выплавляется новый мир. Это же чувство радостного перерождения сопровождает многие его уральские стихи — в первую очередь замечательный «Ледоход»:
(Созвучие «речной» — «черный» тоже напоминает Маяковского, то, что он называл «обратной рифмой»: «резче» — «через», «догов — годов» и т.д.)
Лексика самая угрюмая: шлепает, рвет, ножи, лезвия, скучный, тоскливый лязг,— но звук все равно праздничный, и дыханье свежее, и обещание весны в каждом слове, даром что и закат зловещ, и ледоход алчен. Мучительное обновление (и твердыня, «в мученьях ослепшая», рожает утро — великолепный образ тоннеля, из которого поезд вырывается на свет!) — доминирующая тема будущей книги «Поверх барьеров», и в этом-то настроении Пастернак проводит на Урале первые полгода. Не сказать чтобы ощущение кризиса и исчерпанности сразу покинуло его: еще 2 мая 1916 года он пишет отцу:
«Полоса тоскливого страха нашла на меня, как когда-то. (…) Я не сделал ничего того, что мог сделать… Переносить, откладывая их, неисполненные желания из возраста в возраст, значит перекрашивать их и извращать их природу».
Но недовольство собой — вечный его спутник, без которого он был бы не он,— постепенно отступает под напором того, что сам Пастернак впоследствии называл «чудом становления книги». Пусть сборник «Поверх барьеров» и не был таким чудом, как «Сестра»,— стихия дышит и тут, и мастерство автора уже неоспоримо. Письма — и те становятся мужественнее. И занятия его во Всеволодо-Вильве были самые мужские: конные прогулки кавалькадой, кутежи, охота. Многое из этих воспоминаний попало потом в уральское обрамление «Повести», кое-что сохранилось в «Докторе». Отъезд на Урал — в обоих романах символ прикосновения к реальности, и пусть в «Спекторском» и «Повести» эта тема едва намечена — Урал присутствует где-то «на востоке сознания» героя, как сказал бы Набоков; это вечное напоминание о том, что где-то происходит настоящее и страшное. «Там измывался шахтами Урал» — напоминание о событиях 1918 года, в том числе и о екатеринбургской расправе над царской семьей; не забудем, что волшебное превращение Ольги Бухтеевой в суровую комиссаршу тоже произошло на Урале, это оттуда она вернулась непримиримой партработницей.