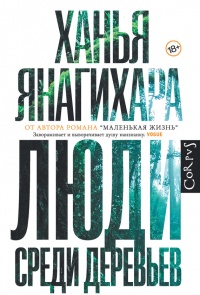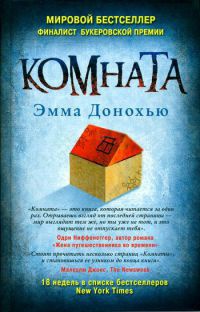Книга Сцены из провинциальной жизни - Джон Кутзее
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мать поворачивается от раковины, ее взгляд скользит по нему. Это внимательный взгляд, в нем нет любви. Она видит его сейчас таким, каков он на самом деле и каким она всегда его видела, когда не поддавалась иллюзиям. Она смотрит, оценивает и не в восторге от увиденного. Он ей даже наскучил.
Вот чем опасен этот человек, который знает его лучше всех в мире, у которого огромное, несправедливое преимущество перед ним, так как мать знает все о его первых, самых беспомощных, самых интимных годах — годах, о которых он, как ни старается, не может вспомнить ничего, вероятно, она также знает (поскольку пытлива и имеет свои собственные источники) презренные секреты его школьной жизни. Он боится суждения матери, боится трезвых холодных мыслей, которые, наверно, приходят ей на ум в такие минуты, как сейчас, эти мысли не окрашены страстью, и она все видит ясно, больше всего он боится той минуты — минуты, которая пока еще не наступила, — когда она выскажет это суждение. Это будет как удар молнии, ему этого не вынести. Он не хочет это слышать. Ему настолько не хочется это услышать, что он чувствует, как внутри его головы рука затыкает уши, закрывает глаза. Он бы предпочел ослепнуть и оглохнуть, нежели узнать, что думает о нем мать. Он бы предпочел жить в панцире, как черепаха.
Потому что, хотя ему нравится считать, будто эта женщина пришла в мир с единственной целью любить его, защищать и удовлетворять его желания, это неправда. Напротив, у нее была собственная жизнь до того, как он появился на свет, жизнь, в которой она ни минуты о нем не думала. Затем, в определенный момент истории, она родила его. Родила и решила любить, возможно, она захотела его любить еще до того, как родила, но если она захотела его любить, то может и разлюбить.
— Вот погоди, будут у тебя собственные дети, — говорит она ему в одну из своих горьких минут. — Тогда узнаешь.
Что он узнает? Она употребляет эту формулу — формулу, которая звучит так, словно пришла из давних времен. Может быть, так говорит каждое поколение следующему в качестве предостережения, в качестве угрозы. Но он не хочет это слышать. Вот погоди, будут у тебя дети. Что за вздор! Как могут у ребенка быть дети? В любом случае, что бы такое он узнал, если бы был отцом? Что бы узнал, будучи таким, как его отец? Именно этого он не хочет узнавать. Он не примет видение мира, которое она хочет ему навязать, — трезвое, разочарованное видение без иллюзий.
19
Тетя Энни умерла. Несмотря на обещания докторов, она так больше и не начала ходить, даже с палочкой. Ее перевели с койки в «Вольксхоспитал» на койку в доме для престарелых в Стикланде, в богом забытом месте, где ее никто не навещал за неимением времени и где она умерла в одиночестве. Теперь ее должны похоронить на кладбище № 3 в Вольтемаде.
Сначала он отказывается идти. Он достаточно наслушался молитв в школе, говорит он, и не хочет их больше слушать. И он откровенно высказывается насчет слез, которые будут проливать на похоронах. Если ее родственники устроят тете Энни подобающие похороны, то почувствуют себя лучше. Ее бы следовало похоронить, вырыв яму в саду дома для престарелых. Это сэкономило бы деньги.
На самом деле он так не думает, но вынужден говорить подобные вещи матери, ему непременно нужно видеть, как ее лицо становится напряженным от боли и негодования. Сколько еще он должен ей сказать, прежде чем она наконец даст ему нагоняй и прикажет замолчать?
Ему не нравится думать о смерти. Он бы предпочел, чтобы, становясь старыми и больными, люди просто переставали бы существовать и исчезали. Ему не нравятся старые уродливые тела, от мысли о стариках, снимающих одежду, его бросает в дрожь. Он надеется, что ванной в их доме в Пламстеде никогда не пользовался старик.
Его собственная смерть — другое дело. Он всегда каким-то образом присутствует среди живых после своей смерти, плавая в воздухе и наслаждаясь горем тех, кто в этом повинен и кто теперь, когда уже слишком поздно, хотел бы, чтобы он был жив.
Однако в конце концов он идет вместе с матерью на похороны тети Энни. Идет, потому что мать умоляет его, а ему нравится, когда его умоляют, нравится ощущение власти, которое при этом возникает, а еще потому, что он никогда не бывал на похоронах и хочет посмотреть, какой глубины копают могилу, как в нее опускают гроб.
Это совсем скромные похороны. Присутствуют только пятеро родственников и молодой голландский протестантский пастор с прыщами. Пятеро — это дядя Альберт, его жена и сын, мама и он сам. Он много лет не видел дядю Альберта. Дядя опирается на палку, согнувшись почти вдвое, слезы струятся из его бледно-голубых глаз, кончики воротника топорщатся, словно кто-то небрежно повязал ему галстук.
Прибывает катафалк. Содержатель похоронного бюро и его помощник — в черном, как и подобает, они одеты гораздо элегантнее, чем все они (он в форме школы Сент-Джозефс, так как у него нет костюма). Пастор произносит на африкаанс молитву по ушедшей сестре, затем катафалк приближается к могиле, и гроб водружают на шесты над ней. К его разочарованию, гроб не опускают в могилу — по-видимому, придется подождать могильщиков, но содержатель похоронного бюро показывает знаком, что они могут бросить в могилу комки земли.
Начинает накрапывать. Дело сделано, они могут идти, могут вернуться к собственной жизни.
По дороге к воротам он проходит мимо старых и новых могил вслед за матерью и ее кузеном, сыном Альберта, которые тихо беседуют. У них одинаковая неторопливая походка. Они одинаково поднимают ноги и тяжело их ставят, сначала левую, затем правую, как крестьяне в башмаках на деревянной подошве. Дю Бьель из Померании — крестьяне из сельской местности, слишком медлительные и тяжелые для города, они там не на месте.
Он думает о тете Энни, которую они оставили под дождем, в богом забытом Вольтемаде, думает о длинных черных когтях, которые остригла ей медсестра в больнице и которые никто больше не будет стричь.
— Ты слишком много знаешь, — как-то раз сказала ему тетя Энни. Хотя ее губы растянулись в улыбке, она в то же время качала головой. — Такой маленький — и так много знаешь. Как же ты собираешься удержать все это в голове? — И она наклонилась и постучала по его черепу костлявым пальцем.
Этот мальчик особенный, сказала тетя Энни его матери, а мать, в свою очередь, передала ему. Но что в нем такого особенного? Никто никогда не говорит.
Они дошли до ворот. Дождь усилился. Им придется тащиться под дождем на станцию Вольтемаде, к поезду до Солт-Ривер, затем пересесть на поезд до Пламстеда.
Мимо проезжает катафалк. Мать протягивает руку, останавливая его, заговаривает с содержателем похоронного бюро.
— Они подбросят нас до города, — говорит она.
Таким образом, ему приходится залезть в катафалк и сидеть, втиснувшись между матерью и содержателем похоронного бюро, степенно проезжая по Воортреккер-роуд. Он ненавидит ее за это и надеется, что его не увидит никто из школы.
— Эта леди, наверно, была школьной учительницей, — говорит содержатель похоронного бюро. У него шотландский акцент. Что может знать этот эмигрант о Южной Африке, о таких людях, как тетя Энни?