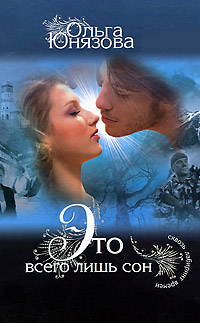Книга Плач Персефоны - Константин Строф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Довольно, – наконец сказала Вера, подняв руку.
Пилад даже не оскорбился подобным неприятием, а лишь продолжал умоляюще смотреть на нее.
– Послушай, дочка, – заговорил вдруг генерал, с трудом повернув к ней неприглядное, набрякшее, слабо узнаваемое лицо. Было заметно, как тяжело ему сидеть, но голос не выдавал. – Возможно, юноша прав и тебе не стоит теперь быть со мною. Я в этом мало что смыслю, но ведь я болен, а когда ты родилась, уже и вправду не делали таких прививок. Мне будет тяжело оторвать тебя от своего безмерно любящего сердца, но раз так надо, я готов.
При всей уклончивости сказанного генералом его слова поразили Пилада, следившего все это время за выражением лица Веры и томящегося образом, который он по ее милости носил.
– Может быть, тогда поедешь в госпиталь? – со слабой надеждой произнесла она.
Генерал отрицательно покачал головой.
– В таком случае и я отсюда ни ногой, – заключила честная дочь.
Генерал внимательно посмотрел на нее – размеренно, будто они были наедине и одновременно на сцене. Сокрушенность его вида, наводившая на раздумья о невыносимости страха смерти, ожившего внутри этого непреклонного ума, странно сочеталась с еле различимым торжеством. Всё вместе, довершенное Вериными словами, вынудило Пилада молча отступить. В один момент на ум пришло, что на протяжении всей истории простые истины неизменно требовали наглядных чудес. В следующую секунду Пилад бросил еще один молящий взгляд, но не нашел глаз, отведенных в сторону под сверкание увлажненных ресниц. Вместо них он наткнулся на неприветливо сдвинутые косматые брови, скоро отправившие его за дверь.
18
Дома все, как казалось, стало на свои места. Погожие дни подошли к концу, и в этот раз, похоже, навсегда.
Она ходила по комнатам, распахивала повсюду шторы, заставляя Нежина недовольно морщиться и отворачивать лицо, смотрелась в зеркало и, если встречалась там с ним взглядом, весело подмигивала. Нежин, первые дни по возвращении проводивший преимущественно полулежа, улыбался ей в ответ, размышляя, как ужасно, когда женщина знает, что для мужчины она не красива и никогда не была таковой, но по-прежнему с ним. В больший ужас приводит лишь тусклое содержимое голов у мужчин, продолжающих быть подле особ, к ним равнодушных. Нежин знал одного. Когда выходит срок годности их брату, всё, что с ними связано, все годы видимости их счастливой жизни, полиняв, сбиваются в один бесцветный клубок нитей, долгих и неотличимых. Сойдет на буфер новому причалу. Наблюдающие с палубы складывают тем временем руки на коленях и нацепляют на лицо непроницаемую улыбку. А на пожелтевшем, вечно девичьем сердце остаются лишь зарубки громких поступков иных ловкачей, преградивших в былое время путь девственности, наивности, бездетности, – засвидетельствовавшие в разное время боль: пролитые страдания расцветят со временем контур прожитой жизни по нетвердой памяти.
А Вера? Был ли он ей дорог? После той встречи они больше не виделись. Были еще несколько утомительных, полных отчаяния телефонных разговоров, но ни краешка ее глаз, затянувшихся вскоре неподдельной поволокой, не доступной ни одной кокетке при жизни. Так дорог ли он был? Не дождавшись ответа, с совершенно неуместной настойчивостью лезет под локтем другое – та нагло узурпированная, взбалмошная кутерьма чувств и, главное, ощущений, что никак не видится облаченной в одно опошленное на тысячах казенных языков слово. А оно, лишенное иной раз всякого смысла и надежд, подбирается, урча, к подножью чужой горы, чтобы рано или поздно всползти на вершину и, обхватив щупальцами и замарав слизью чистый гранит, превратить ее в безжизненный каньон. Наделив всё шуточным поддельным смыслом.
Целую жизнь ища объекта себе под стать, Вера старательно влюбилась в свою болезнь, которой было, как предрекал один ночной гость, ей не избежать. Немного поупрямившись и выказав должное количество жеманства, она тайно разделила с ней ложе и, уже не поднимаясь, принялась утешать ею свое тело. Почему он не вернулся, было неизвестно ни ему самому, ни ему прочему. Здесь досталось понемногу от гордости, от обиды и определенно – от страха. От последнего с наибольшей щедростью. Бывает в жизни немало смешанных страстей, не объяснимых на первый – «пристрастный» – взгляд. Подобное часто испытывал Нежин в отрочестве, вызывая в себе ощущение самосовершенствования через отвращение, как, например, при выдавливании угря или сознательном отсрочивании туалета ушей в ожидании достоверного, ярко заверенного желтым пятном. Примерно так перешел он наедине со своей проницательностью в вечную жизнь, словно идиотический анекдот, неотступно следующий за скороходом с самого горшка.
– Что за запах воцарился? – тихо произнес он, нахмурившись и выведя при этом своим тяжеловесным слогом самого себя из задумчивости.
– Травят блох, – ответила Ольга.
Нежин дважды моргнул и пристально посмотрел на нее, узнавая.
По давней привычке он приписывал повсеместно человеческим словам и бесчеловечным явлениям значений больше, нежели они в действительности имели и зачастую – способны были иметь.
– Довольно смешно.
– Нет, я вполне серьезно, – ответила Ольга с улыбкой. – Разве ты не видел объявления? Сегодня производят обработку. От блох…
Нежин вскочил и надел брюки, чуть не упав со спутанными ногами. И хлопнул дверью.
– Куда ты ходил? – спросила Ольга без прежней улыбки, как только он вернулся.
– Открыл лаз на чердак, – ответил Нежин, переводя дыхание. – Иначе все пойдет через наше бедное на блох жилище. Не думаю, что от этого будет польза или хотя бы удовольствие.
Через некоторое время запах действительно улетучился.
– Ну вот, – задумчиво произнесла Ольга, изогнув брови, – твоя одинокая соседка, небось, сейчас бурчит, зачем ты открыл ту дверь, ведь и без того все рассеялось.
Ольге совсем не было свойственно, кривляясь и меняя голос, изображать речь других. Но шутки от этого нимало не теряли. Становились порой только прозрачнее. Правда, это редко ценилось в их среде, как любое малосольное блюдо.
– Неплохо, – усмехнулся Нежин. – Такую паралогию нарочно не выдумаешь.
И радость его была искренней. Он добродушно поглядывал на Ольгу и совершенно не подозревал, о какой соседке шла речь. Ему честно думалось, будто от начала и до конца была то ловкая инсценировка ради шутки.
19
И все-таки он посетил еще раз дом на клеверном пригорке.
Когда телефонные звонки перестали получать ответ, Пилад, погрузившийся в прерывистый мир длинных гудков, собрался в дорогу.
Местечко, в котором «гнил» (Пилад чувствовал, что в это странное время образность может ненароком обратиться безобразным цинизмом) отставной военный, из-за своей сравнительной удаленности заметно отличалось от столицы. На здешних изогнутых улицах царил мнимый покой. Деревья морило безветрием. Отдыхали в глубинах крон птицы. Пилад не заметил ни одного патруля, на тротуарах и в подворотнях еще не попадались мертвецы, отважившиеся покинуть в заключительном томлении свои затхлые убежища. Было ощущение, что все ужасы, виденные прежде, не более чем тяжкий предрассветный сон.