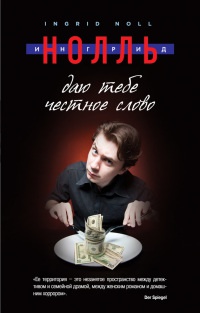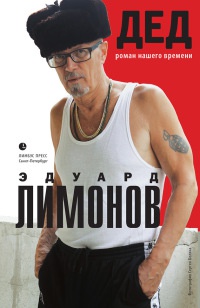Книга Голова моего отца - Елена Бочоришвили
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В кинотеатрах шли фильмы, которые мы тоже смотрели по многу раз. И которые кто-то внимательно просмотрел до нас, вырезал все, что мог, и разрешил. Иногда, вдруг, к нам прорывались иностранные фильмы, как прорывались в блокаду по льду грузовики. Это были ворованные фильмы, которые приходили по неофициальным каналам и демонстрировались не всем. В конце вместо титров были видны чьи-то спины — зрители вставали и заслоняли бутлегеру экран. Мне было двадцать — двадцать два, я уже работал в газете и доставал билеты. Однажды я повел сестру — вот уж кто жил в своих мечтах, как в кино, опускаясь на землю лишь в антрактах, когда меняли бобину.
Фильм был цветной и сентиментальный, в нем было много любви. Моя сестра плакала почти с самого начала. Изображение было шире, чем наш экран, иногда актеры оказывались в «офсайде». В один из моментов герой прощался с героиней навсегда, под проливным дождем. Они долго целовались — в зале молчали и вздыхали. И вдруг ее грудь — голая, белая, с бледным соском — выскочила под дождь, на весь экран. «А-ах!» — вскрикнул я, и вместе со мной весь зал. Я обернулся к сестре — она закрыла лицо руками, ей было стыдно. «В тот момент мне показалось, что меня ударили по лицу», — призналась мне сестра много лет спустя. Ей тогда было столько же лет, что и мне, мы близнецы.
К тому времени мне уже довелось видеть голых женщин. Не так часто, как мне бы хотелось, но все же. Иногда это были женщины, которые доставались мне после отца. И об этом я тоже расскажу, я ничего не собираюсь скрывать от тебя, Фредерик. Но увидеть голую женщину на экране, в полном зале — совсем другое. Я до сих пор не сказал своей сестре, что тогда, в кино, мне тоже было стыдно. Кстати, моя сестра к двадцати годам уже побывала замужем и развелась.
И мы ходили в цирк. Самое яркое воспоминание детства — цирк! Мой отец говорил, что он по-настоящему понял, что война уже кончилась, это когда он попал в цирк. Очевидно, мой отец был не в ладах с цифрами, ведь когда он впервые попал в тбилисский цирк и встретил там мою мать, шел 1952 год. Неужели он продолжал воевать с врагом даже после падения Берлина? Не стоит удивляться тому, что цифры, которые он написал на бревнах нашей будущей дачи, шли не по порядку.
Отец говорил, что жизнь после войны была именно такой, какой ее показывали в черно-белом кино. Социалистический реализм. Работали шесть дней в неделю, а в воскресенье устраивали коммунистический субботник. «Помнишь Ленина на картине „На субботнике“, где он несет на плече бревно? Посмотрел бы я на него в деревне Тапла, годен ли он поднять хоть одно бревно!» На субботниках что-нибудь строили или разбирали. Мужчины и женщины были в серо-черных одеждах, и у всех бледные от недоедания лица. Вот тебе черно-белое кино. И улицы серые, и дома темные, и стены в квартирах черные — от сырости, потому что много лет не топили и потому что курили плохую махорку, выпускали к потолку серый дым. Даже лошади на улицах серо-черные, и машины.
Но от того, что люди работали вместе, им было весело. Они танцевали и любили. Я хочу объяснить, почему мы все же умудрялись быть счастливыми, живя в сером Советском Союзе. Мы были едины, мы были как один. Нас всех лишили прошлого и отвлекли от настоящего мечтой о будущем. Мы были равны в том, что кто-то решал за нас, вместо нас — вклеить нас в книгу или вырвать. Существовала абсолютная уверенность в том, что будущее не зависит от тебя, от тебя лично, хоть оно и твое.
В той пьесе, в том фильме, в котором мы жили, было единство времени (будущее время) и единство места. Мы все знали, что умрем там, где живем. Моя Родина — Советский Союз! Как в тюрьме — лежишь ты в камере или ходишь, ты все равно — сидишь! Это чувство единства и равенства перед своим будущим, чувство равно распределенной безысходности, безвыходности — объединяет. И радость жизни может достичь неописуемых высот. Как перед смертью, как в последний раз, как расставанье навсегда, как голая грудь во весь экран, одна на всех.
Вот оно, главное, чего мне не хватает в Канаде, где все есть. Мне не хватает чувства единства между людьми, чем бы оно ни объяснялось. Мне не хватает всеобщей неистовой радости жизни. Мне нужен соцреализм.
…Отец вошел в круглое здание цирка в самом центре города Тбилиси, на вершине горы Вере, как вошел в цветной фильм. Все было ярким, красочным — цветным! Эйзенштейн раскрашивал флаг в «Броненосце „Потемкин“» вручную. Но там был красным только флаг. В цирке было красочным все — пестрые одежды акробатов, нос клоуна, красные попки обезьян. Он впервые увидел, как огромен слон. Дрессировщик хлопал кнутом по арене, как выстреливал холостой патрон. Лев боялся и подчинялся, а зрители на трибунах даже не вздрагивали. После войны. Потом дрессировщик открыл льву пасть и вложил в нее свою кудрявую голову — и вынул.
Если бы можно было жить как в цирке.
И вдруг на самом верху, почти под куполом, появилась откуда ни возьмись женщина необычайной красоты. Она висела в воздухе на невидимых глазу канатах и извивалась, как змея. Она прикладывала ступни к лицу, она просовывала голову между ногами, она подбрасывала свое изящное тело, держась на одной руке. Она летала над головами людей в серых одеждах, над табачным дымом, как дивная птица с яркими перьями. Вспоминал ли мой отец цирк, когда говорил матери: «Змея ты, а не человек»?
Но самое главное было впереди. Барабанный бой. Женщина уселась на стул, в самом центре арены, и стала обмахиваться веером, как будто устала. Никто не знал, чего ждать. Объявили: «Тихо, товарищи! Сейчас Мзия будет говорить!»
И она заговорила, не открывая рта!
Больше, чем слон, чем львы с обезьянами, чем акробаты и наездники, чем глотатели шпаг — удивительней всего, что люди когда-либо видели в цирке, — была эта маленькая женщина, которая говорила, не открывая рта.
Моя мать, Мзия.
«Публика была поражена, — сказал мне отец, когда постарел, — а я был сражен!» Старость — это когда вспоминаешь себя счастливым, и плачешь.
А потом на арену вынесли огромный ящик, а сверху поставили другой, поменьше, и еще, и еще, пирамидой. Бутафорские ящики уменьшались с каждой ступенькой, и на верхушке было место лишь для одного стула. На стуле сидела Мзия, обмахивалась веером и ждала. Объявили, что если кто желает убедиться, что Мзия действительно разговаривает животом, то он может подняться наверх и посмотреть своими глазами.
Каждый желал бы увидеть Мзию «своими глазами», но никто не хотел подниматься наверх под купол цирка.
Да, мой отец взбежал вверх по пирамиде и был сражен наповал.
— Когда мы встретимся? — спросил он, стоя на шатком бутафорском ящике.
— Никогда! — ответила Мзия, не открывая рта.
Потом ему надо было спуститься вниз, но он не смог. Он даже не мог понять, каким образом он очутился под куполом цирка, на самом верху. И он стоял и стоял, хотя уже три раза сыграли туш. И моя мать взяла стул, подняла его над головой своей маленькой ручкой, не способной удержать даже младенца, а другой ручкой открыла люк. Мой отец увидел внутреннюю лестницу, что шла вниз, к основанию пирамиды, и слез.