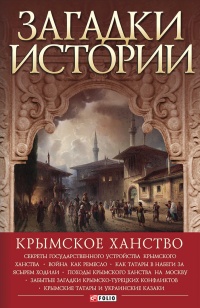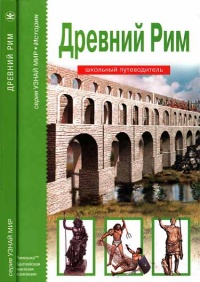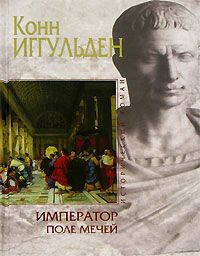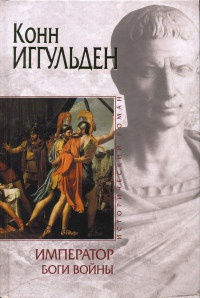Книга Бесславие: Преступный Древний Рим - Джерри Тонер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так не лучше ли было императору выдавать за благодеяния вынужденные уступки и всячески подчеркивать свое милосердие, предупреждая таким образом нападки? Требовалось для этого не так много — не насаждать то, что заведомо не приживется, и исполнять хотя бы часть обещанного, создавая благостную атмосферу достойного и ответственного правления. Аммиан Марцеллин описывает, как правивший в IV веке Юлиан II проявил мягкость, позволив виновному в изнасиловании отделаться ссылкой. Родители жертвы усмотрели оскорбление в том, что виновный в преступлении не подвергся смертной казни, и пытались обжаловать приговор, на что Юлиан коротко и ясно ответил: «Пусть право сделает мне упрек в мягкосердии, но законы милосердия императора должны стоять выше остальных» (Римская история, XVI.5.12). Таким образом, даже приговор к ссылке вместо смертной казни расценивался как проявление императором высочайшего милосердия.
Источаемый императором дух расчетливой милостивой снисходительности мог просочиться и на уровень его высокопоставленных чиновников. В середине II века Марк Семпроний Либерал, префект Египта, объявил об амнистии для всех простых людей, бежавших из дома из-за страха ареста за участие в бунтах или неуплату налогов: «Призываю вас всех: вернитесь в собственный дом, дабы вкусить от первого и величайшего плода процветания!» Далее в его эдикте следует инструкция властям на местах: «Если же вернутся, дайте им знать об этом, на себе испытают благосклонность и доброту императора, который запретил возбуждать против них любое судебное следствие». Конечно, это акт милосердия, но разве имелись альтернативы? Правительству нужно было собирать с людей причитающиеся налоги, но для отлова аграриев, снявшихся с обжитых мест в долине и дельте Нила и пустившихся в бега в прилегающие пустыни, сделать, как оказалось, можно не так уж и много. Император, вероятно, даже остался благодарен тем, кто внял увещеваниям, озвученным от его имени.
Эталоном милосердного императора, а также обладателем иных императорских достоинств считался божественный Август. Он не только прощал многим бывшим противникам выступления против него, но и назначал некоторых из них на высокие посты. Как-то раз на суд к нему привели двух плебеев, уличенных в оскорблении государя. При последующих императорах это гарантировало бы обвиняемым смертный приговор за преступление против величия. Здесь всё было решено проще: плебею Юнию Новату император назначил штраф, другого, Кассия Патавина, приговорил к изгнанию. Первый распространял злобное письмо об Августе, а второй публично заявлял, что полон желания заколоть государя (со вторым император, отметим, поступил весьма благоразумно, отослав его подальше — на случай, если этому человеку вздумается перейти от слов к делу). А когда будущий император Тиберий в письме Августу резко обрушился на людей, которые его поносят, император призывал приемного сына к спокойствию со словами: «Довольно и того, что никто не может нам сделать дурного» (Светоний, Божественный Август, 51). Впрочем, Тиберий не прислушался к этим словам. Зато последующим императорам заповеди Августа пришлись по душе, и они взяли за обыкновение объявлять амнистии и помилования по случаю праздников или торжеств, а также в ознаменование успехов (Дигесты, XLVIII.XVI.8–9). Не исключено, что из-за подобных поблажек соскакивали с крючка отдельные злостные и особо опасные преступники, но ведь мы помним, что наказания носили показательно-назидательный характер, так как удавалось ловить очень немногих из массы орудовавших по всей империи разбойников. А потому помилование являлось красивым жестом: вот, смотрите, отпущен злодей на все четыре стороны милостью всеблагого императора, но перед этим был пойман и осужден по всей строгости и справедливости закона. Излишне говорить, что единожды помилованные не рисковали полагаться на такое чудо во второй раз.
Но как нам вычислить и представить некое средневзвешенное для всех социальных слоев и разных частей империи мнение об императоре? За кого его больше почитали — за благодатного царя-батюшку или всё-таки (про себя и в кругу близких) за деспота и тирана? Если принимать дошедшие до нас свидетельства за чистую монету, то мы вслед за большинством историков сочтем, что народ в любом самодержце души не чаял. На празднествах и торжествах, шествиях и играх народ только и делал, что пел государю хвалебные оды. В любой лавке на самом видном месте красовался освященный портрет императора. Да и непросто было народу скрыться от августейшего лика и образа: тут и профили на монетах, и статуи на площадях (к IV веку на подвластной Риму территории насчитывалось около четырех тысяч одних только бронзовых фигур, а о несметном числе каменных изваяний даже и судить затруднительно), и «скверно писанные» портреты и картины с изображением императора, «восседающего и над столами менял, и в стойлах, и в лавках; вывешенного на всех карнизах, над парадными, в портиках, в окнах, да и просто повсюду» (Фронтон, Переписка с Марком Цезарем, IV.12)[57]. Приходилось даже принимать специальные законы, ограничивавшие «льстивое злоупотребление образом императора», в частности на играх (Кодекс Феодосия, XV.4.1). Доходило и до верноподданнических заявлений, согласно которым города отсылают дань императору с большой радостью (Элий Аристид, Похвала Риму, 65–67).
Думаю, нам следует относиться к подобным высказываниям с немалой долей скептицизма. Прежде всего, большинству населения империи было, вероятно, вовсе не до размышлений об императоре: все силы и мысли простых людей были заняты тяжелейшей борьбой за выживание. Видели мы и вполне достаточно критики в адрес императора лично и в отношении некоторых аспектов его правления. Мы располагаем свидетельствами о том, что императоры прекрасно знали о склонности народа к злословию в их адрес. Одним правителям хватало терпения, и они смотрели на критику сквозь пальцы; те государи, которых проще было разозлить, тщетно боролись с распространением недоброй молвы. Повсеместность образа императора напоминает происходящее в тоталитарных странах новейшей истории. Лично мне довелось побывать в Ливии при Каддафи. Портреты его висели повсюду, и никто не молвил о нем дурного слова. А затем в одночасье всё изменилось. То же самое, похоже, случалось и в Риме после ухода со сцены наиболее одиозных императоров, таких как Домициан и Коммод. Что до Коммода, на первом же заседании после его смерти сенат постановил уничтожить саму «память о злодее-гладиаторе». Имя Коммода было стерто с надписей, а золотые статуи его в тот же день были низвергнуты и вскоре заменены статуями свободы (Элий Лампридий, Коммод Антонин, XVIII–XIX). Хотя римские императоры не имели централизованной власти, сопоставимой с неограниченными полномочиями современных глав тоталитарных режимов, в их распоряжении имелось достаточно инструментов подавления практически любых публичных проявлений недовольства. Молчание римского народа не всегда означало согласие с властью, и римляне порой выходили на громкие протесты, особенно в тех случаях, когда император нарушал общественный договор и не выполнял заявленных обещаний.
Конечно, нельзя утверждать, что в римском обществе царило согласие относительно личности и роли императоров. У каждого из римлян наверняка имелся повод точить зуб на любого из них. Такие, как Тацит, критиковали правителей, злоупотреблявших властью, особенно тех, кто при этом еще и пытался диктовать свои условия сенаторам. Другие судили о благости государей исключительно по уровню цен на зерно. Кто-то видел в них защиту и опору, а кто-то, прикрываясь неприкосновенным изображением, сводил личные счеты с представителями высших классов, осыпая их бранью и угрозами (Тацит, Анналы, III.36). Были и такие, кто, подобно евангелисту Луке, относился к так называемому правосудию в исполнении императорских магистратов со смешанным чувством страха и презрения: