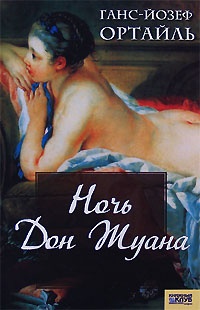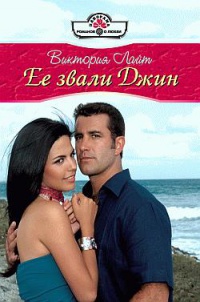Книга Дон Иван - Алан Черчесов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– А дьявол – Факирский?
– Факирский – тень дьявола. Сам дьявол выйдет на сцену потом.
– Чья же тень тогда Хана?
– Хана не тень, а предтеча. От Ханы до Анны даже на слух остается всего ничего. Расстояние в одно придыхание и несколько преданных лет.
– Дон Иван Хану любит?
– Он с ней колдует любовь. Но получается любодеяние. Можно сказать, надежды на чудо как фокус он уже исчерпал. Потому, возвращаясь в фургон и промахнувшись отверстием, он угождает планиде. Отныне Дон колесит по дорогам и постепенно свыкается с мыслью, что у дороги одна только цель – продолжение дороги. Табор учит его забывать все, что мешает дороге, и брать с собой в путь лишь тоску.
– Тоску по любви?
– Настоящей любви. С походной у парня порядок, который не могут нарушить и стычки с ревнивцами.
Ты цыган, шепчет ему молодая смуглянка, когда он лежит без сознанья с пропоротым животом. Ты цыган, хвалят его старики, когда он выбивает кнутом нож из мстительных дланей. Я цыган, говорит он себе, когда его собственный нож метит соперника раной. Я такой же цыган, как и русский, француз, сингапурец, размышляет Дон про себя, когда его начинает тошнить от дороги. Ворует он впрямь, как цыган, только лучше: он ворует, как фокусник. А еще он ворует, как мстит – себе за тоску. И чем больше ворует, тем азартней рискует…
Как-то в сумерки в табор заявляется сумрачный гость на мотоцикле с коляской. Зовет вожака. Они отъезжают в сторонку. Мотоцикл как будто бы Дону знаком: такой же он видел в сарае, который намедни обчистил. Спор, однако, у этих двоих не о том. Иначе с чего мужику доставать из засаленной стеганки гильзу банкнот и совать за кушак вожаку? Тот стоит, растопырив стыдливые руки, трясет головой. Кинув наземь тяжелую цепь, мужик уезжает. Следом взвивается вихрем длиннющая пыль. Завернув силуэт вожака в балахон, она оседает седой несмываемой кляксой у бывшего вора на памяти.
– Бывшего?
– Трудно быть вором тому, кто украден.
– Постой, угадаю! Вожак его продал?
– Сдал в рабство.
– Вольница стала неволей? Чудеса продолжаются.
– Только цвет у магии черный.
– Нет, дружище. Еще не совсем.
– Не совсем? Уколи ему, Герка, лекарство, пока он не спятил совсем. Дядя, ты явно загнул! Ну, скажи, что может быть хуже рабства?
Я почти торжествую:
– Война.
Слово попало, как камень в стекло. Облитые брызгами сотен осколков, молчим. Тетя смотрит в окно. Герман уставился в пол. Это портит молчание. Мне не хватает в нем мелочей: от нее – одобрения поднятых век, от него – замешательства синего взгляда.
– Ты о войне ни хрена ведь не знаешь, – выносит мой друг приговор.
– А нам знать не больно-то хочется. Ты же пишешь роман о любви. – Голос Светланы звенит раздраженной мольбой.
– Я пишу роман о любви, которой плевать на войну, потому что война – это смерть, а любовь ее побеждает. Дон плюет на войну, а заодно обвыкается драпать от смерти. Вот почему я пишу про войну. Скитальцу туда – прямая дорога.
Если честно, то я про войну не пишу, а лишь собираюсь писать. Тут без Герки не обойтись: как врач, он может подкинуть деталей. Для затравки делюсь с ним сюжетом. Герман настроен скептически, но постепенно, по ходу рассказа, потрошитель в нем оживляется: кто привык иметь дело с трупами, снисходителен к полуживым. Светка старается быть безучастной. Так старается, что погружается в сон. Перед тем, как уйти из палаты, я склоняюсь над нею, всматриваюсь в лицо. Оно безмятежно, как ненависть, у которой в запасе вся ночь. Тетя, похоже, меня ненавидит смакуя.
– А знаешь, Герасим, вчера мне она позвонила.
– Испанка? Стало быть, Эра опять не химера?
– Уверяет, что передумала. Кончать с собой в ее планы больше не входит.
– Известие стоит обмыть. Куда завернем?
– Обмывать рановато. Долорес грозится приехать в Москву ко мне в гости.
– Знатная стерва! По шкале терроризма, это третья степень угрозы. Надо обмозговать.
– Говорит, что мечтает теперь ознакомиться не с итогом, а с темной изнанкой моего бесподобного творчества – поглядеть, как я буду лгать ей в глаза в присутствии супруги.
– Зря помешал ей откинуть копыта. Хотя вот тебе мой диагноз: положение сложное, но поправимое. Твой самоотверженный друг готов тебя выручить. Коли она такая красотка, принимаю удар на себя.
– Ты не пишешь романов. Ты даже их не читаешь. А такую кобылку под силу взнуздать только литературе.
– По шкале бабских безумий, это последняя стадия помешательства. Тут я тебе не помощник. А когда твоя Эра нагрянет? Пока Тетя в больнице, есть шанс отделаться диареей.
– Пока Тетя в больнице, у меня всегда имеется шанс обосраться.
– Брось. Она не умрет. Давай-ка болтать о чем-то приятном. Лучше уж про войну.
Я излагаю задумку.
Проданный в рабство, Дон сидит на цепи почти год – в том сарае, который ограбил на воле. Странное дело: работать рабу не дают, а кормят как на убой. При появлении гостей Дону суют в зубы кляп и надевают на голову плотный мешок – скупердяйка-судьба в который уж раз экономит на реквизите. Сын хозяина, отвечающий за кормежку, заставляет раба откликаться на имя «Антон» – так зовут самого крестьянского сына. Он Иванов ровесник. Это многое объясняет, если знать, с какого боку к этому подойти. Дон не знает, а потому изнывает в неведении. В его арсенале имеются разные фокусы, но такому, чтобы рассыпалась цепь, Факирский не обучил.
Хозяин с хозяйкой в сарай не заходят. Похоже, на Доне поставили крест, но какая на этом кресте намалевана надпись, можно только догадываться. Бывает, гадая, Дон грохочет цепями, приводя в неистовство местных собак. Наказание справляет ленивый Антон. Он пинает, зевая, раба сапогом и рассудительно увещевает: «Вдругорядь кровью ссать будешь. Не опостыло бузить? Ну-ка, раззявь сюда пасть, я ее рванью затыкаю. Авось, осмирнеешь».
Лето, осень, зима идут и проходят своим чередом. Все они одеты в полоску: из-за неконопаченных щелей целый год облачен в арестантскую робу. В холода отряжают яремнику драную бурку и скудельную пену овчины. Нутро согревает первак-самогон. Отмеряют его по три кружки в сутки – достаточно, чтобы согреться на час и уснуть, чтоб замерзнуть во сне и проснуться, чтобы очнуться рабом.
Потом как-то раненно, сбоку, из-под полы у раздатчицы-скуки, подползает к сараю весна. Осмелев, она тычет в прорехи неструганных досок отчаянным писком птенца, на который в груди отзывается клекотом плакса-надежда. Она не обманывает: к маю Дон обретает свободу. Но свободу не жить на свободе, а ради свободы погибнуть. Ради свободы Антона Бойцова, по чьим документам раба забривают в Чечню. Армия – это место, где выполняешь свой долг, причем за кого-то другого, думает Дон, отправляясь на фронт в набитом вагоне. Большинство новобранцев – крестьяне или дети какой-то беды, с трудом и брезгливо читающие по слогам. Детдомовцы новой страны, чьи сыновья преспокойно сидят по квартирам.