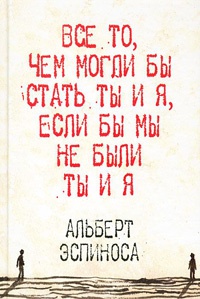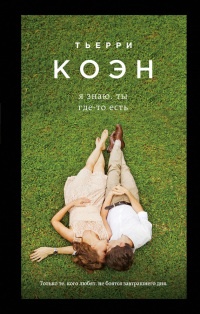Книга Мое имя Бродек - Филипп Клодель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На площади Зальцвах и на проспекте Зибелиус-Во-Рехт снег уже пристал к земле, и немногочисленные прохожие оставляли там черные цепочки своих следов, похожих на следы насекомых. Глядя на эти места, можно было подумать, что ничего не случилось, что город просто пережил обычный понедельник, а ранняя сонливость улиц объясняется лишь плохой погодой и холодом, да еще слишком рано наступившей темнотой.
Но стоило оказаться в лабиринте квартала Колеш, как становилось ясно, что все совсем не так. Меня предупредил звук. Звук битого стекла под моими ногами. Улочка, в которую я свернул, была им буквально усыпана и, насколько хватало глаз, блестела всеми этими осколками, которые кое-где припорошил снег. Я не мог удержаться от мысли, что тут щедро разбросали драгоценные каменья. Это придавало улочке какое-то новое искрящееся измерение, чудесное и феерическое, которое было сродни убранству некоей сказки, для которой оставалось только подыскать канву и принцессу. Но это первое впечатление тотчас же испарилось, когда взгляд наткнулся на зияющие, словно пасти мертвых зверей, витрины, на внутренности разграбленных лавок, на загаженные прилавки и разбросанные товары, на разбитые бочки, откуда вылилось вино, вывалилась маринованная селедка, вяленое мясо, корнишоны. К звуку шагов по стеклянному ковру примешивались стоны и плач. Было непонятно, кто причитал, потому что нигде не видно было живых. И наоборот, перед портняжной мастерской лежали три трупа с безмерно распухшими и посиневшими от ударов головами. На двери, болтавшейся на одной петле, были намалеваны красной краской слова Schmutz Fremder – «подлый чужак», хотя слово Fremder двусмысленно, оно может означать также и «предатель» или в просторечье «сволочь», «подонок». На некоторых буквах были потеки краски. Казалось, что они кровоточат. На земле грудой валялись рулоны тканей – похоже, их пытались поджечь. Несколько осколков, еще державшихся в раме витрины, вычерчивали звезду с невероятно тонкими и хрупкими лучами.
Эта надпись, «Schmutz Fremder», попадалась во многих местах, сопровождаемая другой: «Rache für Ruppach» – «месть за Руппаха». Мои глаза все время возвращались к трем трупам. Я чувствовал, как меня охватывает головокружение, а их вид пробудил смутные воспоминания о других трупах, валявшихся, словно сломанные игрушки, и уже не имевших в своих чертах ничего человеческого. Я снова стал ребенком, блуждающим среди руин, покинутым среди обломков, мусора и огней, горящих почти повсюду, и уже не слишком хорошо знающим, оказался ли он игрушкой кошмара, от которого ему не удавалось избавиться, или же игрушкой эпохи, решившей позабавиться с ним, как кошка с мышью. И одновременно с появлением этих обрывков моей прежней жизни я видел и все подробности гравюры из труда д-ра Месснера, дымы, бесчисленных крыс, ребенка, людей в черном, груды трупов – словно на омерзительное зрелище разоренной улочки перед моими глазами внезапно наложились воспоминания о собственном раннем детстве и детали гравюры, соединив воедино все их ужасы. Я зашатался и чуть было не упал на землю, но вдруг услышал, как меня кто-то окликает слабым разбитым голосом, чем-то напоминавшим тысячи стеклянных осколков.
Это был старик, скрючившийся чуть дальше, в углу дверного проема. Он был очень худой, а длинная седая борода еще больше утончала ему лицо, будто вытягивая его. Он дрожал и тянул ко мне руку. Я быстро подошел и попытался поднять его на ноги, а он все твердил одни и те же слова: «Безумцы, безумцы, безумцы, совсем сошли с ума…» – на древнем языке, на языке Федорины.
– Где вы живете? Вы с этой улицы?
Его глаза зацепились за мои на несколько секунд, но он, казалось, не понял мои вопросы и снова завел свою заунывную жалобу. Его одежда была разорвана во многих местах, а левая окровавленная рука казалась безжизненной. Я взял старика за талию, чтобы поднять, но едва успел прислонить его к стене, как у меня за спиной раздались голоса:
– Гляди-ка, еще шевелятся! Издеваются над нами! Наш Руппах мертв, а они все еще на ногах!
Приближались три каких-то типа. Каждый был вооружен длинной палкой, а на левом рукаве у них была черная повязка с двумя переплетенными буквами:
«W. R.». Они громко говорили, смеялись. Лицо одного из них, насколько я смог рассмотреть, поскольку козырьки их каскеток затеняли черты, показалось мне знакомым, но я чувствовал, как меня охватывает страх, и мои мысли путались. Этих молодчиков можно было счесть пьяными, но от них не пахло спиртным. Впрочем, гнева и ненависти довольно, чтобы задурить мозги. Это будет посильнее шнапса. Увы, позже, в лагере, мне пришлось неоднократно удостовериться в этом.
Старик по-прежнему монотонно причитал. Впрочем, думаю, что он даже не заметил моего присутствия. Один из троих приставил свою палку к его груди:
– Будешь повторять за мной: «Я дерьмовый Fremder!» Ну-ка, повторяй!
Но старик не слышал, не видел.
– Думаю, он вас не понимает, он ранен…
Слова сами по себе сорвались с моих губ, и я сразу же пожалел о них. Теперь палка уперлась в мою грудь.
– Это ты сказал? Это ты осмелился заговорить? Да кто ты такой, со своей пархатой мордой? Ты же воняешь как Fremder! – И он так врезал мне по ребрам, что мне перехватило дух.
Тут вмешался его приятель, который кого-то мне напоминал:
– Нет, этого я знаю, его Бродеком зовут.
Он почти вплотную приблизил свое лицо к моему, и тут я его узнал. Это был студент третьего курса, часто приходивший в библиотеку, как и я. Его имени я не знал. Помнил только, что видел несколько раз, как он листал трактаты по астрономии и долго разглядывал звездные карты.
– Бродек, Бродек… – пробурчал тот, что казался их коноводом. – Имя совсем как у Fremder! Вы только взгляните на нос этого гада! Носище – вот что их всегда выдает! А еще лупоглазость, глаза прямо из башки вылезают, чтобы все заприметить, все заграбастать!
И он продолжил втыкать палку мне в ребра, будто строптивому животному.
– Феликс, брось его! Займемся лучше стариком, он-то точно сволочь, вон его лавка, я ее знаю! Настоящий ворюга, жирует, давая деньги в долг!
Вмешался третий из шайки, еще не подававший голоса:
– Это мой! Сейчас моя очередь! Вы уже каждый двоих прибили!
Он тоже вышел из тени, в которой до сих пор оставался, и я вдруг увидел ребенка лет тринадцати, не больше, наверное, с тонкой свежей кожей, который улыбался как безумный, блестя зубами в темноте.
– Вы только гляньте, малыш Ульрих хочет свою долю угощенья! Нежноват ты еще, братишка, молоко на губах не обсохло!
Старик, казалось, заснул. Его глаза были закрыты. Он уже не говорил. Мальчишка в бешенстве оттолкнул брата, отстранил меня концом своей палки и застыл перед немощным телом, скрючившимся на земле. Наступило долгое молчание. Ночь стала густой, как грязь. В улочку ворвалось дуновение ветра и слегка взметнуло снег. Никто не шевелился. Я убеждал себя, что все это мне снится или что я на сцене театрика «Штюпишпиль», где часто ставили столько гротескных, бессмысленных, а порой и жестоких спектаклей, однако всегда кончавшихся фарсом, как вдруг мальчишка снова оживился. Подняв свою палку над головой и завопив, он обрушил ее на старика. Тот не вскрикнул, но открыл глаза, вытаращил их и задрожал, словно его столкнули в ледяную реку. Мальчишка нанес ему второй удар, в лоб, потом третий, в плечо, потом четвертый, пятый… Он уже не останавливался и все смеялся. Товарищи подбадривали его, хлопая в ладоши и скандируя: «Ой! Ой! Ой! Ой!», чтобы задать ему ритм. Череп старика лопнул, издав сухой треск, как орех, который разбивают между двумя камнями. А мальчишка все лупил и лупил, как сумасшедший, все сильнее и по-прежнему вопя, но постепенно, даже еще не прекратив бить, еще смеясь и глядя на то, что осталось от жертвы, в то время как его товарищи по-прежнему хлопали в ладоши, его заляпанное кровью лицо изменилось. Ужас от содеянного словно проник в его вены, в каждый из его членов, мускулов, нервов, наполнил собою мозг и омыл его от всей его грязи. Удары замедлились, потом прекратились. Он в ужасе уставился на свою окровавленную, с налипшими осколками кости палку и на свои руки, словно они ему не принадлежали. Потом его глаза вернулись к старику, чье лицо не было похоже ни на что, к его закрытым и ужасно распухшим векам, каждое размером с яблоко.