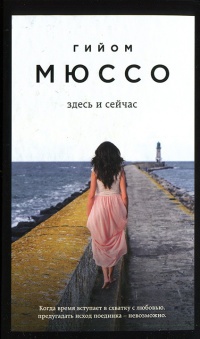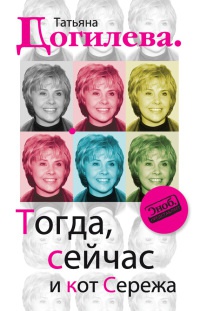Книга Амнезиаскоп - Стив Эриксон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Все, чем ты являешься, – шепчет кто-то мне в ухо, – у меня в голове». Кто-то еще целует меня в губы, и тогда вторая целует меня в губы, и я думаю: обе они – Вив; теперь ее две. Я снова засыпаю.
Когда я просыпаюсь, я не связан. На глазах нет повязки. Серый свет утра или дня – я не уверен, который час, – наполняет квартиру Вив; все еще идет дождь. Рядом со мной никого больше нет, но на тумбе возле холодильника стоят два недопитых бокала с вином. Мои ноги и член измазаны губной помадой; я иду в ванную и моюсь, и потом, все еще мокрый, встаю на колени перед диваном и целую Вив так, как она целовала меня несколько часов назад. Во сне она запускает пальцы в мои волосы.
Недалеко от офиса редакции можно прокатиться на лодке по старой подземке. Городские власти пытаются заколотить старые входы в метро, но люди все равно приходят и выламывают доски. С тех пор как несколько лет назад туннели затопило, после того как подземку только построили, тротуары грохочут, как будто под ними поезда, только на самом деле это звук подземных каналов, несущихся из Долины через каньон Лорел в Фэрфакс-Корридор и затем разветвляющихся на восток, к Голливуду и далее к Силверлейку, или к югу, к Болдуин-Хиллз. Там туннели вновь разветвляются: один вьется в сторону призрачной пристани для яхт, второй вливается в Лос-Анджелес-ривер и течет дальше, к Сан-Педро и гавани. Проплывая по каналам, ведущим к югу, из любого импровизированного дока, которыми кишит подземелье, движешься мимо бродяг, живущих в катакомбах и старых покинутых вагонах, плавающих в гротах. Ящерицы – сиамские близнецы шныряют по потолку туннеля, и глубокие, выцветшие до белизны корни деревьев, обрамляющих Кресент-Хайтс и Шестую стрит, проламывают стены подземки. Если проплыть на лодке до самой Санта-Моники, подземная река доставит тебя прямо в окутанный паром залив, где кобальтовое небо взрывается над головой, а город маячит позади, увенчанный гривой дыма. За годы сквозь миллионы трещин в стенах затопленных туннелей вода каналов впиталась в землю, и теперь весь город стоит в большой черной лагуне зыбучего песка...
Вив рассказывает мне о своем сне. Во сне ее отца убили; в расплату она поджигает убийцу посреди своей квартиры. В то время как он горит, а свет пламени заливает стены, и отблески смешиваются, как краски на картине, убийца превращается в меня, хотя вовсе не ясно, был ли я им изначально. Вив очень встревожена этим сном; меня, кажется, больше всего удивляет то, что она чувствует, будто обязана рассказать мне о нем, словно это признание или что-то, в чем я должен отчитаться или найти рациональное зерно. «Но огонь был очень красивый», – заверяет она меня.
Мы решили на несколько дней покинуть Лос-Анджелес. Мы выехали из дождя, который начался в ту ночь, когда я был привязан к ее кровати, и оставили его позади, в ущелье Кейджон-Пасс, примчавшись в Лас-Вегас тем же вечером. Мы заняли номер на высоком этаже в одном из небоскребов-казино. Вив объявила с заднего сиденья, что совершенно не заинтересована в азартных играх, но спустя пару дней и пару дюжин «бомбейских сапфиров» мне пришлось разгибать ее пальцы, один за другим, чтобы ослабить ее смертельную хватку на игорном автомате. Вечера мы проводили в старом стрип-баре в даунтауне, под названием «Золотая подвязка»; девушки там были вполне сносные – не дистрофичные блондинки калифорнийского типа, а смуглые невадки рубенсовского типа. Меня не выманила незнакомка в бассейн при казино, и землетрясение не похоронило нас под обломками; но однажды ночью и мне приснился странный сон, пусть и не такой зажигательный, как тот, что видела Вив. Мне снилось, что я заперт в длинной темной комнате. Добравшись до ее конца, я отчаянно пытался открыть дверь, озаренную по контуру ореолом света, когда вдруг услышал, как меня кто-то зовет. Снова и снова кто-то звал меня, а я все ломился в дверь, пока звук моего собственного имени не стал таким назойливым, что я проснулся. Разлепив глаза, я понял, что стою перед окном нашего номера и слышу голос Вив. Она встала сходить в уборную, а из уборной услышала шум в комнате; выбежав, она застала меня у окна, колотящим но стеклу в попытке выбраться наружу. Учитывая, что наш номер находился на одиннадцатом этаже, хорошо, что это мне не удалось. Ничего не понимая, как старый маразматик, я продолжал стоять у окна в темноте, пока Вив не взяла меня за руку и не увлекла обратно в постель...
Когда мы приехали назад в Лос-Анджелес, там все еще падал тот же самый дождь. Это был дождь, какого никогда не бывает в Лос-Анджелесе, одна гроза за другой наплывали из Мексики и с моря, заливая встречные пожары. Теперь весь город вспух пузырями, покрылся оспинами следов, налитых водой, загудел от стремительного бурления подземных каналов; между грозами воздух наполнялся шипением пара, поднимавшегося от выжженных колец, и, когда пробивалось солнце, над городом висела пелена золотого света. Дома на дальних холмах были похожи на маленькие белые деревушки, плывущие по небу, и потом холмы поддались дождю и оползли и плывущие деревушки растворились в воздухе. Дождь был удачей для Вив – она нашла огненный ров, окружавший дом Джаспер, погасшим, как раз вовремя, чтобы воздвигнуть свой Мнемоскоп, который она привезла на окраину при помощи грузовика и нанятых рабочих. Джаспер нигде не было видно, но ее отчим наблюдал за происходящим из башни; он грозил Вив кулаком и что-то кричал, но ничего не было слышно. Мнемоскоп стоит в десяти ярдах от дома и возвышается на десять ярдов над землей, нацеленный на восток, на невидимое утреннее светило, в ожидании шанса явить первое воспоминание в солнечном взрыве рассвета. Почти сразу же после установки Мнемоскопа Вив ощутила внутри жжение, чуть выше живота и ниже грудной клетки, – недалеко, я полагаю, от сердца. Как будто во сне она подожгла свою сердцевину.
Никак не уйти от чувства, что все расклеивается... Примерно в то же время, когда Вив начала заболевать, я проснулся как-то утром и обнаружил, что дождь идет не только в Лос-Анджелесе, но и в гостинице «Хэмблин». Над входом в мой люкс протекал потолок, и женщину из соседнего номера буквально смыло, ее матрас плавал по квартире, как разбухший плот. Конечно, сделать ничего было нельзя, поскольку в здании, заодно с дождем, царила анархия – Абдул прятался от своры женщин, рыскавших по гостинице и жаждавших его крови, не то чтобы Абдул еще заведовал хозяйством, не то чтобы это имело какое-то значение, когда он им заведовал. «В гостинице идет дождь», – с порога сообщил я Вентуре, и мне ответила четкая капель по голове. Вентура сидел в том же кресле, в котором сидел всегда, в той же шляпе и ковбойских сапогах; было ясно, что ему наплевать на дождь. Через минуту он объяснит, как аберрантная близость Антарктиды к одной из лун Юпитера капитально разладила метеорологическую обстановку во всем полушарии, и теперь мы можем ожидать беспрестанного библейского дождя семь лет подряд. Но он не стал вдаваться в это, у него была пара более важных заявлений. Первое и менее интересное: он умирает.
Он многократно заявлял что-то подобное за то время, что я его знаю; кажется, он едва избежал смерти тридцать или сорок раз. Если у него не ползучее гниение желудка или какой-нибудь неслыханный рак, значит, сердце бьется неким из ряда вон выходящим образом. Я начал воспринимать вести о грядущей кончине Вентуры метафорически; одна из его самых знаменитых газетных передовиц начиналась большим черным заголовком: «ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЗДОРОВ ЛИ ТЫ, БОГАТ, УМЕН ИЛИ КРАСИВ – ТЫ УМРЕШЬ», – после чего в шести-семи тысячах слов эта мысль развивалась на благо любого местного нарциссиста, все еще пребывающего в заблуждении, будто он бессмертен. Не то чтобы я сам не относился к смерти серьезно. Не то чтобы я не думал о ней все время, не то чтобы прошел хоть один день после моего восьмилетия, когда мысль о ней не пришла бы мне в голову. Однако в этот конкретный момент я пытался решить, будет ли утопление в собственной квартире, по сравнению с другими вариантами, смертью скорее нелепой, чем экзотической, или же скорее экзотической, чем нелепой, и кап-кап-кап мне на голову в дверях у Вентуры служило убедительным доказательством в пользу нелепости. Тем не менее вряд ли Вентура полагал, что утонет в собственной квартире; он раздумывал над перспективой более раннего ухода из жизни. В этот раз у него была не в порядке кровь. Врач, сказал Вентура, сообщил ему, что его кровь «консистенции сливок». Он снова произнес это и заметно оживился: как писатель, он не мог противостоять поэзии этих слов. «Кровь консистенции сливок», – сказал он в третий раз, опуская свои ковбойские сапоги на пол. Он улыбнулся. Теперь он был счастлив. Какой романтический рок. Он был ходячей холестериновой бомбой, тикающим куском жира; он начал перемалывать это в голове, расхаживая по комнате, со все увеличивающейся сицилийской напыщенностью. «Кровь консистенции сливок». Он был в восторге! На его лице сияла гримаса экстаза.