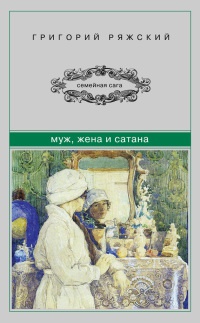Книга Новый американец - Григорий Рыскин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды мы оказались в редакции вдвоем. Житомирский достал из шелкового мешочка, расшитого еврейскими письменами, Тору и талес. Покрылся талесом и стал завывать, повернувшись к восточной стене. Я заглянул ему через плечо. Житомирский держал священный текст вверх ногами.
– Прекратите хулиганить, – вскричал я. – Тартюф!
– Пусть еврейство имеет своих Тартюфов.
– Стыдитесь. Еще год назад вы были секретарем парторганизации журнала «Знание – сила». У меня есть доказательства.
– Тем более я достоин лучшей доли. У меня есть идея.
– Наверняка какая-нибудь гнусность.
– Давайте пойдем к боссу и предложим в редакторы меня. Вы будете ответсекретарь.
– Это на каком же основании?
– Очень просто. В редакции только два настоящих еврея, вы да я. Остальные полукровки. Редактором еврейской газеты должен быть еврей.
– Но я необрезанный.
– Сначала переворот, потом обрезание.
– Я не могу пойти с вами.
– Почему?
– Потому что вы противный.
Он как-то сразу опечалился:
– Неужели я такой противный?
– Вы очень противный.
Мне стало жаль его.
– Ступайте на бухгалтерские курсы.
– Это почему же?
– Потому что вы пишете, как бухгалтер.
– Пожалуй, уйду в экскурсоводы.
– По каким местам вы намерены водить экскурсии?
– По США и Канаде.
– Стыдитесь, Житомирский. Вы не водите машину, не выезжаете за пределы эмигрантского гетто, живете в отрыве от реальности. Ну что вы можете сказать экскурсантам?
– Что же, вбить гвоздь в стену и повеситься?..
– И это у вас не получится.
– Это почему же?
– Американская стена не рассчитана на висельников. Шитрак не удержит гвоздь с телом. Говорю это как профессиональный маляр.
Житомирский был растерян. Он уложил в свой шелковый мешок Тору и талес и пошел к выходу. Его китайские шорты противно шуршали, черная кипа сползала с лысины. У него были большие женские икры. Издалека казалось, что к его ногам привязано по батону.
* * *
Газета была убыточна, обременительна для хозяина. И надо было сократить расходы. И потому велено было одного утопить, сбросить с бревна. Нельзя было располовинить Ю. Располовинить Ю – это все равно что произвести операцию по расчленению сиамских близнецов, а затем одного утопить. Амбарцумов был краса и гордость. Такая уж планида Звездину выпала. Сбросить в холодную глыбь необходимо было его. Он сразу понял и побледнел. Его близко поставленные глаза сошлись к переносице, стали похожи на двустволку. Он молчал и моргал. Амбарцумов косил жеребячьим каштановым глазом, моргал, морщил лоб, вздыхал, массировал затылок. Мне было жаль Амбарцумова.
Ю уставились голубыми бессовестными гляделками и хихикали.
– Т-т-ты уволен, – нетвердо сказал Амбарцумов.
– Как же так? – сказал Звездин и провел дрожащими пальцами по серебряному бобрику.
– Мне поручено тебя уволить, – сказал Амбарцумов.
– Кем?
– Неважно.
– Как это неважно?
Амбарцумов не мог провести операцию как мужественный сын Кавказа, потому что одна его половинка была иудейской и в ней брезжил Иегова.
Через несколько лет, стыдясь, он станет говорить: Звездин, видимо, думает, что это я его уволил. Амбарцумов намекал на мрачные силы, принудившие его.
– Можете вы мне объяснить за что?
– Ты не сдаешь материалы вовремя, – нагло сказал один из Ю.
– Но только что вы поместили мою статью на доску лучших.
Все было как тогда, в Калининграде, когда мне навстречу плыло бледное Карпово лицо с растерзанной бороденкой. В вестибюле меня поджидал тогда Мишка Адлер: «Не дрейфь, старичочек».
Вот он сидит на пыльном, ободранном диване. Равнодушный, понурый, усталый.
– Вы чудаки на букву М, – сказал я. – Вы все иуды.
Я мог позволить себе такую роскошь. Мой категорический императив был крепко подперт малярным катком. У меня в кармане было два солидных контракта на ремонт квартир.
– Надо бы подумать и о бессмертной душе, господа, – осмелел Поляковский.
– Предлагаю прекратить завывания, – сказал Амбарцумов.
– А я предлагаю решить дело голосованием, – не унимался Поляковский.
– Мы не на собрании в жилконторе, – сказал Амбарцумов.
– А жаль, – возразил Поляковский.
Звездин был потлив. И покуда происходила вся эта пое…нь, крупные капли пота падали с его лба и собирались в лужицу на линолеуме, у его начищенного ботинка. Нет в мире виноватых. Вот мы сидим в Нью-Йорке, на Восьмой авеню, вдоль стен: эти дамы-щелкоперы, стройный молодой Барсегян, озабоченный исключительно своей диссертацией в Колумбийском и ничем более, – и у каждого свой резон. И каждого можно понять…
– Мне можно идти? – сказал как-то задумчиво Звездин.
– Можешь идти, – сказали Ю, – инцидент исперчен.
Звездин вышел, даже не хлопнув дверью.
Да ведь и то сказать, в какой-то ситуации трудно на высоте пребыть. Ибо тут прав тот, кто недельный чек выписывает. А тот, кто выписывает чек, ни в грош не ставит русскоязычного щелкопера-неумеку. Ибо цена ему на рынке труда – нуль. Тут у щелкопера один выход: ступай-ка ты в люди.
Да, непростое это дело – всю жизнь литературные лапти плести и вдруг под занавес прибиться к настоящему делу. Когда зад расплющен от сидения в редакционном кресле, мозг марксистской пудрой запудрен, одышка и распухшая простата. Тут ведь для смердяковщины простор, для подпольного человека.
Ну а ежели искра божья тебе дана? Талант, гуманитарная культура? Ведь искра божья – редкий дар. Неужто загасить ее, как окурок каблуком, и обывать жизнь. Посвятить оставшиеся годы баксу и более ничему. Ведь он, зеленый, твою живую душу, как гусеницу, сжует.
* * *
Видно, так уж мне на роду написано – жить орехом-двойчаткой, маляром-щелкопером, смотреть на мир сквозь забрызганные краской очки да книжки в бане-сауне читать.
Вот он лежит, отдыхает на лежаке в клубе здоровья, старый ворон-еврей, укрывшись крылом. Древний лукавый ворон-скрипач, ворон-миллионер. Он почему-то называет меня Мойшке. Пускай называет, если ему так нравится.
– Я капиталист, Мойшке, пойми. Капитализм – это комфорт, вэй, но я социалист.
– Почему?
– Потому что у меня есть шейхл[23]. А у тебя нет. У меня умерла жена. Она болела пять лет. Рак… Знаешь, во сколько мне это обошлось? В два миллиона. У меня еще есть, вэй. А если у кого нет…