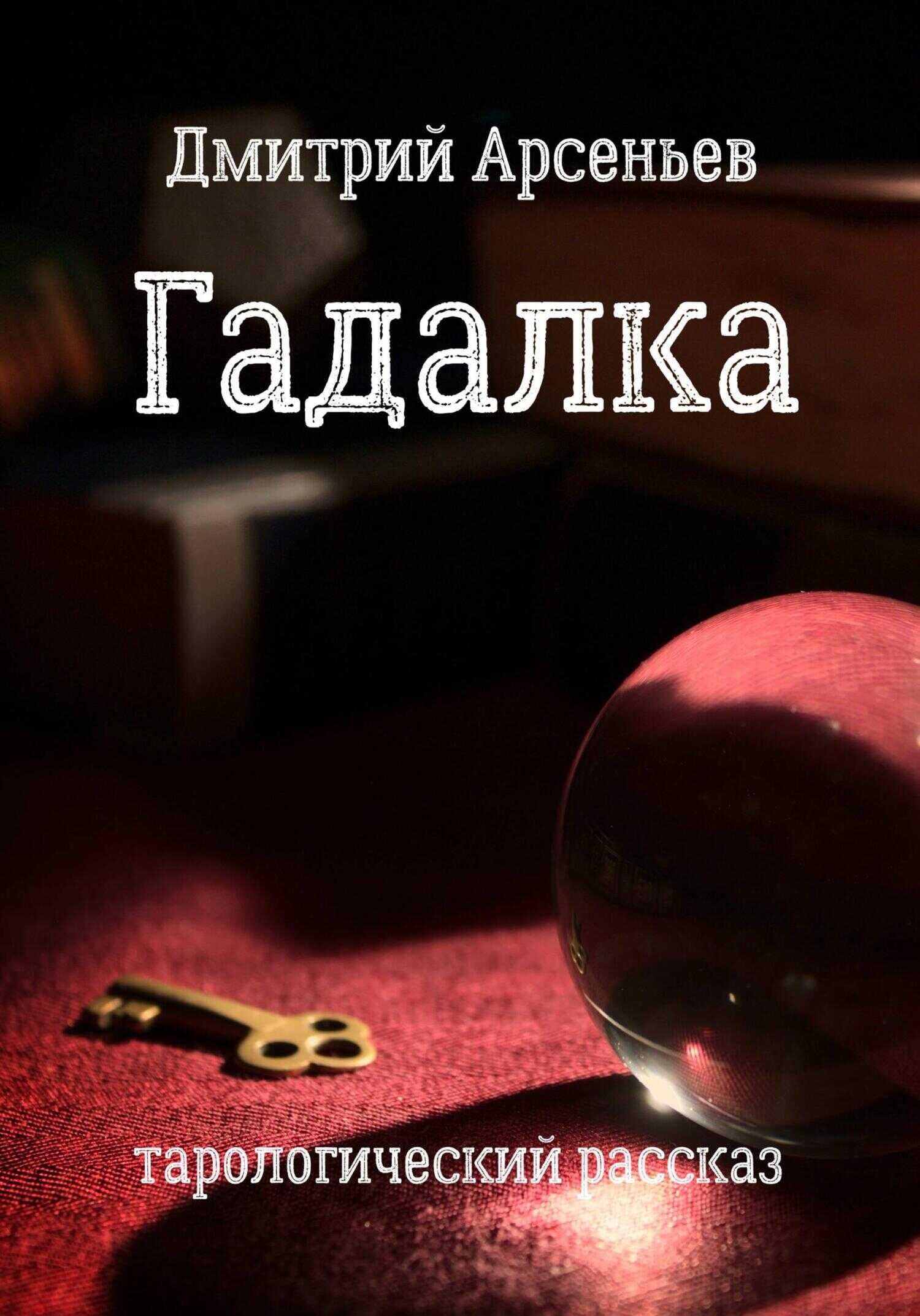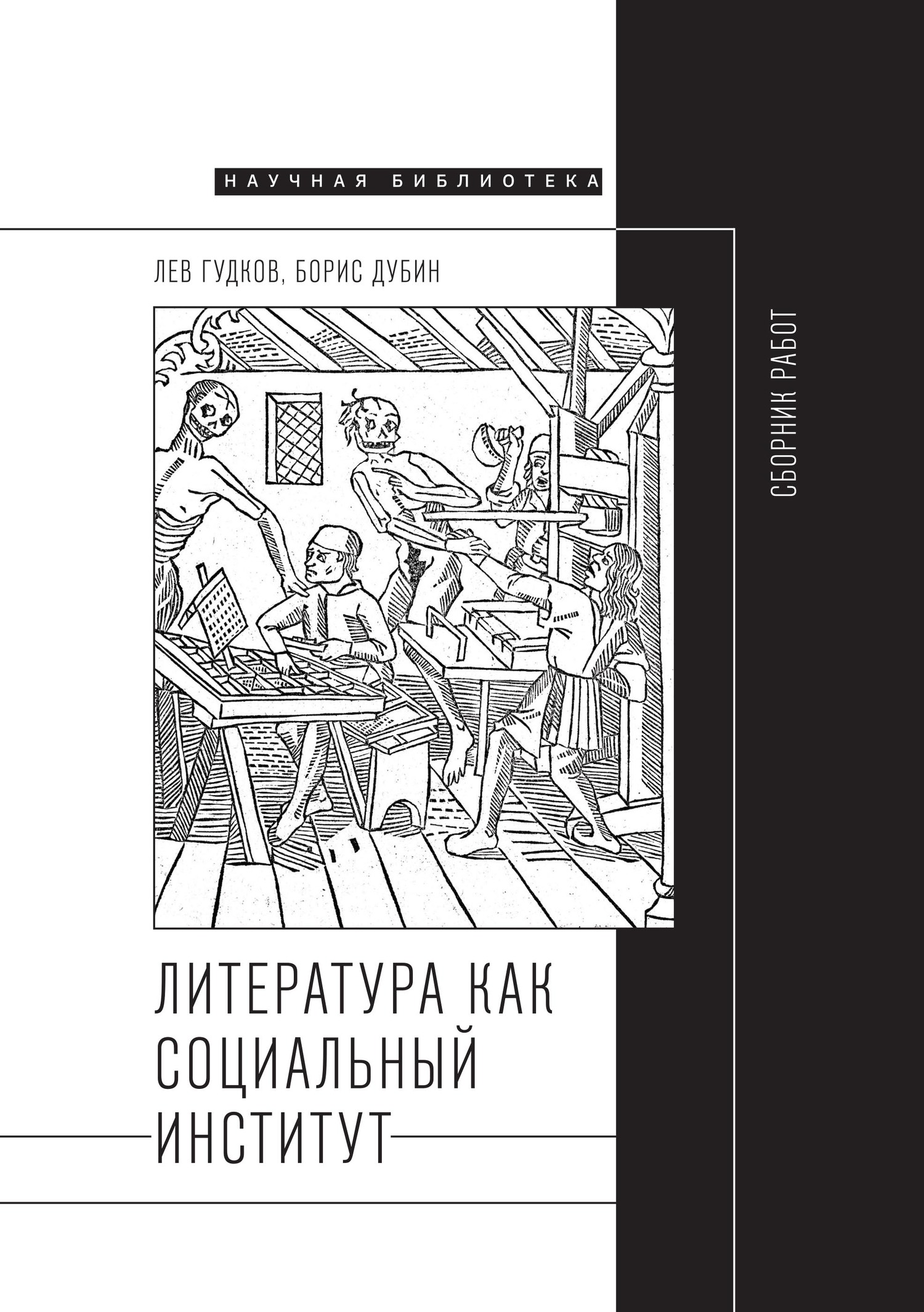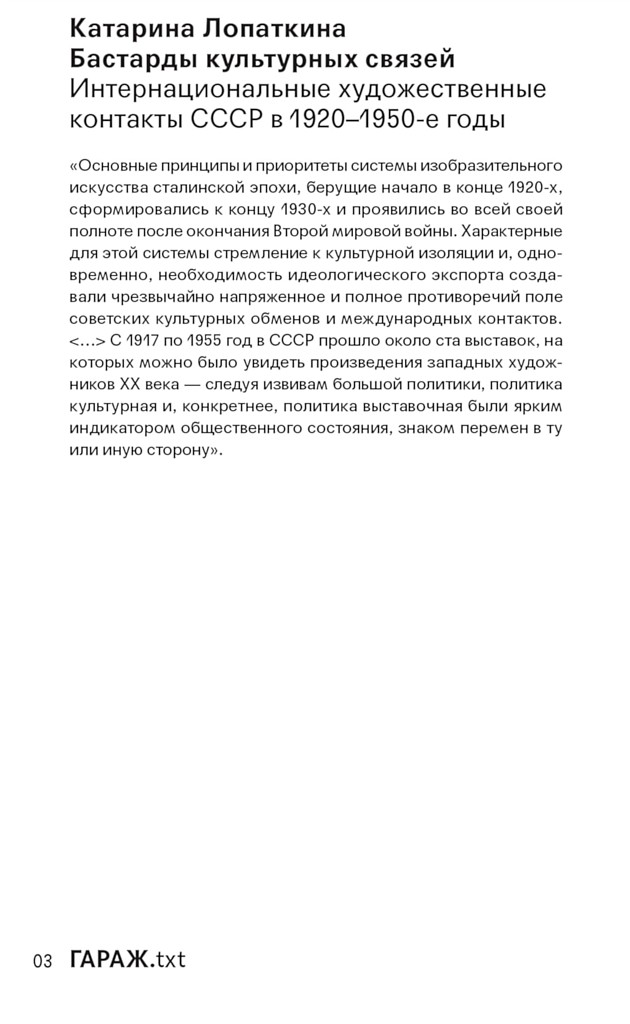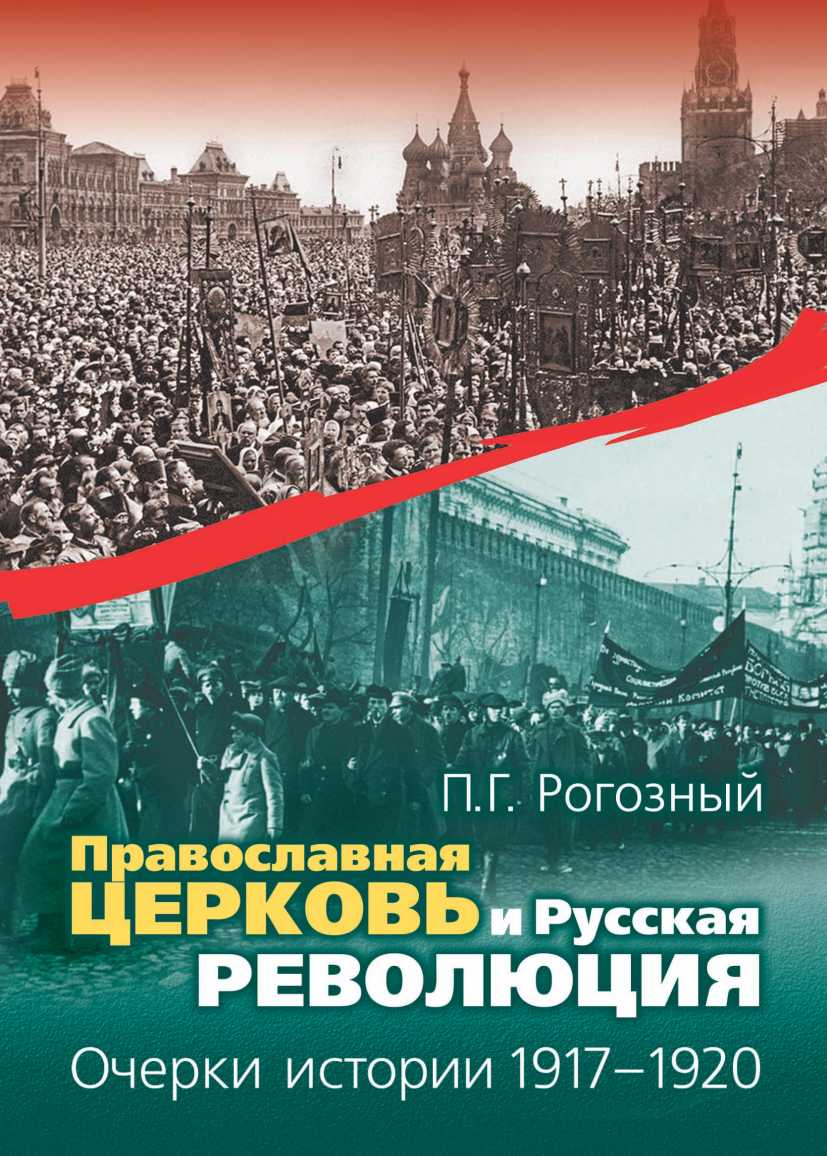Книга Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов - Павел Арсеньев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Если Ролан Барт увидит в Японии «империю знаков», Третьяков разрабатывает свой медиасемиотический синтез в очередном путешествии в Китай. В первую поездку там произошло воспитание таких чувств, как слух и обоняние[475], в результате чего он приходит от заумной поэзии к модели театральной психоинженерии, во второе же его путешествие происходит переоснащение зрения литератора и фактографический синтез на базе фототехники:
ТАК СКАЗАЛ ОСЯ
«Ты едешь в Пекин. Ты должен написать путевые заметки. Но чтоб они не были заметками для себя. Нет, они должны иметь общественное значение. Сделай установку по НОТ и зорким хозяйским глазом фиксируй, что увидишь. Прояви наблюдательность. Пусть ни одна мелочь не ускользнет. Ты в вагоне – кодачь каждый штрих и разговор. Ты на станции – все отметь вплоть до афиш, смытых дождем».
Я понял. Я буду кодачить. Если говорит Ося – ему трудно возразить, у него шпага логики и утилитаризм. Я пошел в магазин и купил крепкий блок-нот[476].
В этом потрясающем столкновении между требованиями «фиксировать глазом» или даже «кодачить» (чтобы не оставалось сомнения о том, какая техника имеется в виду)[477] и действиями Третьякова, установка по НОТ разбивается о бытовой дефицит, но в результате дает формулу литературы факта. Перед тем как сесть в поезд в Пекин, Третьяков покупает не фотоаппарат, а «крепкий блокнот», заметки в котором впоследствии будут названы «Путьфильма», но это не фото– и не киносъемка, а их эмуляция на письме.
Желая преодолеть груз прежних представлений и словарь «китайщины», Третьяков называет свою книгу очерков о Китае «Чжунго». Претендуя открыть в ней глаза советского читателя на реальный Китай, но поначалу еще скорее адресуясь к ушам советского читателя; безапелляционно «реальным» характером в этой книге обладает, прежде всего, само название. Выбирая в заголовок транскрипцию названия Китая на китайском (Zhōngguó, дословно – Срединная империя), Третьяков еще использует наработки зауми[478], но вместе с тем уже эмулирует фотографическую объективность описания, как бы совпадающего со своим объектом[479], а также старается говорить на языке объекта, предвосхищая будущую этнографическую практику.
И все же Третьяков начинает делать фотографии и публиковать их в составе своих журналистских репортажей одним из первых среди представителей русского авангарда, а его имя для многих в 1920–1930-е годы станет ассоциироваться именно с ролью фотожурналиста[480]. Фотоаппарат у него, судя по всему, появляется именно в Китае[481]. Читаем в «Чжунго» о событиях лета 1925 года:
Первым вспыхнул Пекинский национальный университет, поведший за собой остальные школы на колоссальную демонстрацию <…> Гневное напряжение в толпе высоко. Иду с фотоаппаратом за толпой. Потерял своих студентов. На меня обращено внимание двоих – один с палкой, другой – с зонтом. Когда я навожу аппарат, палка начинает дергаться. Но парень с зонтом поступает проще – он становится перед аппаратом, закрывая объектив[482].
Первые снимки, вероятно, делаются Третьяковым под угрозой физической расправы[483]. Первый «ЛЕФ» был еще больше посвящен литературе, чем другим искусствам, и он упоминает фотографию, точнее фотомонтаж, лишь единожды, в отрывке, который приписывают Брику[484] – эта же серокардинальская фигура оказывается наставляющей Третьякова на путь письменной фактографии с сопоставимой с Заратустрой настоятельностью («Так сказал Ося»). «Новый ЛЕФ» уже сделает фотографию одним из главных предметов своего обсуждения и способов оформления[485]. Массовое распространение фотомонтажа ко второй половине 1920-х обязано, среди прочего, совершенствующимся технологиям печати, позволившим появляться фотографии и тексту на одной и той же странице. Так, репортажи Третьякова о Китае публикуются в журнале «Прожектор» – иллюстрированном приложении к «Правде», чьи названия прекрасно отражают входящие в симбиоз медиумы[486].
Фото-снимок не есть зарисовка зрительного факта, а точная его фиксация. Эта точность и документальность придают фото-снимку такую силу воздействия на зрителя, какую графическое изображение никогда достичь не может. Плакат о голоде с фото-снимками голодающих производит гораздо более сильное впечатление, чем плакат с зарисовками этих же голодающих[487].
Еще сильнее голода с фотоснимка действует смерть. Актуализация этого медиума может быть обязана смерти Ленина, как это было и в случае с радио[488]. Когда он умирает в январе 1924 года (за несколько недель до отъезда Третьякова в Китай), необходимость удержать исторический момент дает толчок двум параллельным ставкам: физиологической и технологической. Во-первых, пытаются зафиксировать тело вождя (а также его мозг) для памяти (и изучения) в нетронутом состоянии[489], а во-вторых, фототехника получает перед станковой живописью невиданное преимущество фиксации «минимально деформированного материала». Как и в случае с записью голоса, очень небольшое количество фотографий Ленина было сделано при его жизни, и они, сохраняющие с ним индексальную связь, ложатся в основу многочисленных фотомонтажей – этого жанра, наследующего практикам будетлян, уже в 1910-е предпочитавших пользоваться разрубленными частями тел и слов[490]. Если во враждебном окружении буржуазного правительства левый авангард призывает «использовать фотографию как оружие»[491], то после социалистической революции ножницы и фотоснимки направляются на регенерацию вождей. Таким образом, Ленин оказывается «живее всех живых», потому что благодаря фотомонтажам он оказывается все в новых и в новых ситуациях.
В год смерти Ленина авангардистов начинает интересовать возможность победы жизни (в том числе вождя) над смертью неизвестным науке[492], но знакомым искусству способом: формалисты увековечивают «приемы ленинской речи»[493], Крученых и Клуцис медитируют на радиооратора (и, следовательно, на запись его голоса)[494], Третьяков везет в своем багаже в Китай фотоизображения его похорон[495], а Вертов позже посвящает ему свои кинопесни[496]. Медиатехниками авангарда оказываются покрыты, таким образом, все регистры существования вождя – его символическое, реальное и воображаемое[497]. Если правительство больше ориентировано на монументальные жанры и более твердые носители вроде скульптуры[498], для авангарда наиболее подходящими инструментами записи оказываются пишущая машинка, фонограф, фото– и кинокамера.
Это позволяет увидеть фактографический авангард как раннюю философию медиатехники. Если явление должно говорить само за себя, то лучшим решением для этого оказывается уже не рассказчик (за искусство которого еще ратует Беньямин) и не жанр научного протокола (которым вдохновлялся литературный позитивизм XIX века), но технический аппарат. Поэтому Леф и воюет прежде всего не с вымыслом, а с литературными жанрами и символическим типом знака, вследствие чего литературе факта (все еще продолжающей пользоваться словами) не остается ничего, кроме эмуляции технических средств записи, к примеру разрешающей способности камеры,