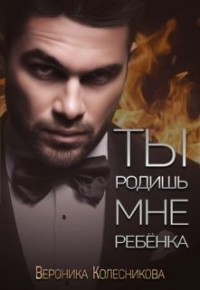Книга Энигма-вариации - Андре Асиман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Позднее, приняв душ и одевшись, я посмотрел и, будто бы ни с того ни с сего, сказал, что не знаю твоего имени. Возможно, сделал я это, чтобы подчеркнуть: я обратил внимание, что в то утро ты впервые назвал меня по имени, твой поступок не остался незамеченным. Ты тут же назвал свое. Я бы никогда не догадался. Не знаю почему, но я все думал, что ты — Фридрих, или Хайнц, или Генрих, или Отто. А поскольку при знакомстве так положено, я протянул руку и пожал твою. Мне понравились ощущения. Я знал, что почувствую, как от одного к другому пробежит импульс. Или, быть может, мне хотелось думать, что я это почувствовал. Тем не менее что-то я почувствовал. Я не собирался задерживать твою руку в своей, но мне этого хотелось, и я знаю — из того, что тебе хватило вежливости не отнять свою ладонь сразу, — что ты, возможно, тоже что-то почувствовал. Внезапно — и это было просто здорово — я стал старшеклассником, который посылает младшего за сигаретами. Мне понравилась твоя смущенная улыбка. И еще кое-что мне понравилось: мы поменялись ролями. А он робеет, подумал я.
— Предлагаю на днях сходить выпить.
— А что, можно, пожалуй.
Мне захотелось поцеловать твою руку, переплести пальцы с твоими и проникнуться мягкостью твоей ладони. Разумеется, ничего такого не произошло. И все же я заглянул тебе прямо в глаза в надежде, что ты все понял.
На работу я отправился, окутанный восторгом. Вот только я не заметил, что ты идешь прямо за мной, в каких-нибудь десяти шагах. Понял я это не когда спускался по лестнице в метро, не когда шагнул на платформу, а уже в поезде. Ты вошел через другую дверь, отыскал место в том же вагоне. Я стоял и читал газету. Если ты меня и видел, ты вновь смотрел молчаливо и уклончиво. За пределами корта мы никогда не разговаривали. Я не хотел форсировать события, навязываться, а потому сделал вид, что задумался над газетой. Извинился перед садившейся женщиной, когда задел ее газетой по лицу, причем сказал это погромче, чтобы ты слышал. Я уже два года пробавлялся этим в раздевалке: говорил с кем угодно и при этом говорил только с тобой. Возможно, я ждал, что это подтолкнет тебя к разговору. С другой стороны, ты ведь и без моего голоса знал, что я тут, в поезде. Ты уже знал, как знал и я.
И вот ты сидел, глядя в пространство тем самым безжизненным отрешенным взглядом, который я уже видел на корте, — на безымянную людскую массу в вагоне ты смотрел, не видя. Ноги ты слегка раздвинул и положил ладони на колени, тыльной стороной вниз — жест настолько беспомощный, пассивный, он придавал такую бесконечную покорность твоей безвольной позе, что мне больно было смотреть на спортсмена, сидевшего вот так. Хотелось сказать что-то, что-нибудь, смести все барьеры, спросить, в чем дело, почему ты столь уныло и неприкаянно смотришь вокруг. Но мог ли я себе такое позволить? Вот и продолжал делать вид, что читаю.
И в душе зашевелилась былая нежность к тебе, когда я вдруг понял, что, несмотря на настороженность, я так увлекся газетной статьей, что не заметил, как мы доехали до твоей остановки, как ты вышел — возможно, едва не задев меня при этом, но так и не сказав ни слова.
А когда я дошел до работы, утреннюю радость окончательно задушили слова, которые ты сказал в ответ на предложение выпить. «А что, можно, пожалуй». Я вспомнил, что в твоих устах это не означает «да». Это — вежливый отказ.
В ту ночь, сев за компьютер, я занялся разысканиями. Не зная твоей фамилии, впечатал «Манфред», название твоей частной школы в Квинсе, неподалеку от станции метро, до которой я однажды за тобой проследил, слово «теннис». Никакого результата. Я стал пробовать самые разные комбинации, одни слова убирал, другие добавлял, использовал даже избитый прием — проверил американские военные базы в Германии. Опять ничего. Потом я впечатал «Оберлин» и «Манфред», стал просматривать годы выпуска. И тут, к величайшему моему изумлению, появилась твоя фотография с твоим полным именем.
Я не утерпел и стал искать дальше. Где ты живешь в Нью-Йорке? Что о тебе говорят? Есть ли у тебя страничка на фейсбуке? Кто твои друзья? Я прочитал все.
Я не только выяснил твой адрес и телефон; в соцсетях нашлось имя человека, который, возможно, был твоим партнером. Я ввел его имя, и тут же выскочило «Фукидид». Потом: «Преподаватель-классик». Ты не соврал. Он действительно уже опубликовал монографию о Фукидиде.
Мне было завидно. Я представлял себе, как вы познакомились в первую неделю на первом курсе, я видел, как поздно вечером — каждый вечер — вы вместе возвращаетесь из библиотеки. Может, вы встречаетесь в библиотеке после ужина. И однажды, зимней ночью, по пути из библиотеки к тебе в общежитие он остановился, сел на скамью — хотя и стояла стужа — и сказал: «Мне нужно знать, Манфред. Ты ко мне что-то испытываешь?»
Между нами изменилось одно: закончилась эта странная война нервов. Теперь ты первым начинал разговор. Мое угрюмое «Нормально» в ответ на «Как прошли выходные?» превратилось в долгое повествование о том, что ты делал или видел. Я узнал про твоего отца, что ему сделали трансплантацию костного мозга, о печальном состоянии центрального кондиционера в твоей квартире на Девяносто пятой улице, о твоем старшем брате, который вернулся в Германию, о черно-белых фильмах, которые вы с партнером любите смотреть по каналу «Тернер классик». О спорте ты говорить не любил, даже не спросил, смотрел ли я «Ролан Гаррос». Ты больше не игнорировал, как раньше, обветшание нашего теннисного павильона, отпускал шуточки по поводу грязной раковины, над которой мы брились, луж, через которые мы переступали, одеваясь, бездомных, которые по утрам проникали в павильон, чтобы принять душ и постирать одежки в тех самых раковинах, над которыми мы только что брились и чистили зубы.
— Знали бы мои коллеги-учителя, что мы тут каждое утро якшаемся с бомжами.
Действительно, однажды утром один из бездомных вошел и сгрузил свою грязную одежду в раковину.
— Что я тебе говорил, — сказал ты.
— Приветик, Пол, — сказал бездомный.
— Привет, Бенни, — ответил я.
Пока мы шли к шкафчикам, я рассказал, что у Бенни очень грустная судьба. Он работал барменом, а потом -наркотики, одно несчастье за другим, вот он и оказался на улице. Лишился лицензии, дома, жены, детей, но при этом перечитал всю русскую литературу и может перечислить ингредиенты всех коктейлей, изобретенных на этой стороне Атлантики. «Пытается выкарабкаться», — сказал я, добавляя участия в свои слова, возможно, чтобы показать, что под моими язвительностью и сарказмом прячется доброе сердце. Ты ничего не ответил. Но мне нравилось говорить с тобой, одеваясь, потому что за разговором тебе приходилось стоять ко мне лицом, а значит, мне открывался вид на твое тело — подбородок, грудные мышцы, мышцы живота, глаза. Ниже я глядеть не хотел, а потому сосредоточивался на твоей груди, вот только сосредоточенность на твоей груди вызывала желание ее потрогать, поэтому я сосредоточивался на твоем лице, а его хотелось поцеловать, и тогда я опускал глаза ниже пояса, так, чтобы ты не успел проследить за мной взглядом, — и все это время мы говорили об опустившемся бармене, который хочет выкарабкаться.