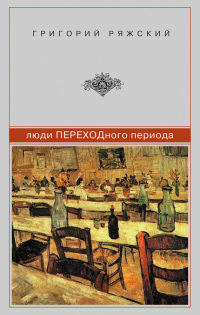Книга Страстотерпицы - Валентина Сидоренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Деревенька, по которой проходит Эдуард Аркадьевич, и жилая-то была махонюшкой, но он помнит ее еще веселой, звенящей, с желтым, как масло, легким деревом в солнечную благодать и подобранною, нарядною еще… В семидесятых годах прошлого века Егоркино признали неперспективною деревенькою. Приговор смертный. Убрали школу, потом магазины, отключили электроэнергию. В восьмидесятых еще доживали в деревне кое-какие старики, а, кроме того, ее оживил короткий дачный бум. Городская интеллигенция за бесценок скупала пустые усадьбы, приезжая в деревню летом. И несколько беспечных и звонких лет здесь слышалось детское щебетанье и гудели машины, и горели костры, и ходили по тропкам разомлевшие полуголые дамы, волнуя и вдохновляя его. Тогда они с Марго еще дружили и ночами просиживали у костра, говоря без умолку. Сколько пьяной дребедени нашептал он ей в охочее до сальностей, крайне любопытное ушко. Язык тогда у него был мастеровит и отточен на этих глупостях. Марго была уже замужем за своим игрушечным Зямой и воображала Эдуарда Аркадьевича своим верным и пожизненным оруженосцем, бесконечно влюбленным в нее. И он от суетности своей и безделия подыгрывал ей… и доигрался. Эдуард Аркадьевич вспомнил их последнее свидание с Марго. Как она выговаривала ему, милостью подавая ничтожную сумму за его комнату. Кривила при этом плотные, как подошва, крупные губы, источающие яд, а он – сизо-серый с похмелья, униженный, с обвисшими подглазьями, в потрепанном Зямином пиджаке, теснившем его, как второгодника-переростка, – смотрел на нее через аляповато оформленное тяжелой бронзой зеркало, холодно изумляясь тому, что вот эта усатая жидовочка, которая сейчас гневно колышется перед ним всем своим сырым, оплывшим телом посреди когда-то и его громадной квартиры, забитой перетянутой атласом мебелью с грузными амурами в дорогом багете, это и есть та самая Марго, когда-то нежное волоокое создание с лилейной шейкой и кошачьей грацией, на которой он едва не женился. И неужели с нею аж в долялькин период, беспредельно мечтательные и романтичные, они взахлеб читали стихи, многозначительно взглядывая друг на друга и замолкая посреди разговора? А теперь она, картаво грассируя, кричит о своей высокой жертвенности и его неблагодарности. Грассировать она выучилась в последние годы, когда начала изображать себя из дворян, съездила в Питер, понахваталась там одесской блатоты, выдавая ее за дворянскую культуру…
А тогда она купила эту усадьбу, поселив в ней Эдуарда Аркадьевича как сторожа, домового, своего вечного воздыхателя. К этому времени жизнь у него рухнула. Он ушел из семьи, института, поболтался в туристских походах, подвизаясь на легком и веселом хлебе этого агентства. Но и биваки случайного знакомства таких же, как и он, катившихся по жизни, как перекати-поле под ветром, и короткие и легкие любови, ни к чему не обязывающие, почти механические от однообразия, приелись ему, и деревенька показалась Эдуарду Аркадьевичу крошечным раем, местом обетования и покоя. Тогда же Софья, его жена, по совету своей свекрови путем сложных и непонятных манипуляций обменяла квартиру себе с сыном и комнату в коммуналке для Эдуарда Аркадьевича. Дом, в котором он жил, сталинский, с просторными квартирами, высокими потолками, чистыми обустроенными подъездами, и его комната в соседстве с одинокими стариками, которые вскоре покинули этот свет, очень заинтересовали Марго. Однажды, как бы между прочим, закинула, что готова помочь ему и достать хорошие деньги под его комнату. А договор о купле-продаже ее будет как бы фиктивным. «Это условности, которые нужно соблюсти». Он гораздо позднее узнал, что комнаты стариков она к тому времени уже «прихватизировала». Сумма, ею предложенная, показалась Эдуарду Аркадьевичу фантастически громадной. Думалось, что ее хватит на всю жизнь до последнего дня. С избытком… Она и этой-то суммы не выплатила на треть, предложив ему вместо нее «заведовать» дачей: стеречь, садить и ухаживать за огородом и привозить ей урожай на дом. Так он и остался в деревне Егоркино, куда вскоре вернулся к родительскому очагу Иван. Старики в деревне повымерли, либо их разобрали по городам дети. Дачникам поездки в деревню стали не по карману. Они постарели, дети повыросли и не рвались сюда. Так они и остались вдвоем с Иваном. Пенсию Эдуард Аркадьевич не получал. Можно было выхлопотать какую ни на есть, но для этого тоже нужны деньги и ноги. А ни того, ни другого в наличии не было. Да и останавливаться у Софьи всегда было тягостно… За последние годы он продал на росстани, проел и пропил сначала все вещи Марго, весь «а ля» «русский антиквариат», который она старательно сюда свозила под его недремлющее око. Потом пошел шарить по деревне… И при удачной продаже они с Иваном, бывало, «гудели» по два-три дня. Теперь уже все продано… Им еще помогал Гера Руцкой, бывший журналист, теперь предприниматель, травивший местных старух американскими окорочками. Тот время от времени делал наезды на своем «мерседесе» по местным мертвым деревням, откуда он сам был родом, но не для продаж. Для подарков городским снобам и приезжим знаменитостям. Иван считал, что пропивать честнее. Они оба не любили этого Геру… Вот так и доживает он приживалом русской деревни и Ивана. У того пенсия, которую он ездит получать раз в два-три месяца, какие-то акции, с которых он худо-бедно стрижет дивиденды, и сын, и невестка, и внучка в городе, и могила жены здесь, на Егоркинском погосте… Иван богаче. У Эдуарда Аркадьевича тоже сын и внук, но какие-то не такие. Чуждые. Как говорит Иван – ушли в евреи. А он вот тут. И не тут, и не там…
Этот день не удивил и не обрадовал Эдуарда Аркадьевича. Солнышко пригрело его на обочине проселка, посреди новой зелени травки, и он, любовно погладив ее, сказал: «Куда ты прешь, дура! Ну куда вылезла. Заморозит ведь. А…»
Мимо проехал Гера, кивнув ему вздутой головою с казацкими усами и надменно усмехаясь. Не было Ивана. Как только тени от близкого лесочка поползли на дорогу, он встал и пошел по ее каменистой припыленной середке. Дойдя до крайней усадьбы, он еще раз оглянулся с надеждою на дорогу. Небо у горизонта уже сливалось с землею, и кромка их соития густо и влажно темнела. Небесная синь налилась и в самой сердцевине своей уже отсвечивала коротким и трепетным закатом. Дорога потемнела посреди желтизны увядших трав и полуголого леса и была пуста и собранна под близким устрашающим небом. Перед закатом особенно тоскливы разрушенные усадьбы, и первая из них – бобыля Никифора – уже источала вместе с тенью едва уловимый женственный плач. Эдуард Аркадьевич прибавил шаг. Он помнил старика Никифора. Это был высокий, белый, с лунным отливом, очень красивый старик, и Эдуард Аркадьевич удивлялся его бобыльству. Он и старух-то в Егоркино помнит очень активными, дошлыми до семьи. А вот Никифор прожил бобылем. Говорили про какую-то романтичную историю его юности, но Эдуард Аркадьевич склонялся к другой, более прозаичной и правдивой: что война порушила его мужские способности. Вот и просидел Никифор остаток жизни один на своей лавочке подле ворот, сухим стерженьком. Белый-белый старец… Никифорова усадьба рухнула первой. Может, оттого, что еще при жизни хозяина она не имела должного ухода, да еще крайняя. Ее первую начали разбирать заезжие… А вот – три «девицы-сестрицы», как он называл крепкие и как бы спаенные усадьбы подле бывшего памятника погибшим фронтовикам (успела ведь деревенька обрести его в годы брежневской кампании). Эти подобранные, крепенькие звенели в обнимочку белым крупным деревом. Легкие, веселые, простые, как слово «мать». Он любил сидеть подле этой «животворящей троицы» на белой лавочке. Казалось, что это сидение давало ему надежду и силу. Он и сейчас сел на приземистую белую лавку, оперся спиною о нагретый солнцем заплот. Нога поднывала, плохой знак, и Эдуард Аркадьевич, подняв военное сукно зеленых брюк, погладил больное место сухой, по-птичьи узкой ладонью. Спину пригрело от заплота, и он подержал под солнцем худое, синеватое от голодной старости лицо. Припекало нежно, ласково, и он задремал совсем ненадолго, как бывало с ним теперь часто, минут на двенадцать, но в глубокой вязи смутного сна – едва забрезжили ее очертания. И он заволновался, рванувшись к ней, и от волнения проснулся, открыл глаза. Тишина стояла смертная. Даже дыхание ветра прекратилось, птицы – и те не щебетали, беззвучно прорезая воздух. Эдуард Аркадьевич встал, теребя гладкий ствол трости, откинув ее, пошел прочь от «Троицы», потом вдруг вернулся и вновь сел на лавочку. «Отчего это осенью так синеют реки? – обреченно подумал он, глядя на реку. – Должно же быть этому объяснение».