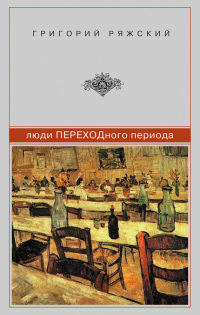Книга Страстотерпицы - Валентина Сидоренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На крыльце сидела Оленька, что-то слушала, поджав колени к подбородку.
– Я не помню, – спросила она, – кузнечики стрекочут ночью?
– Я тоже не помню, – ответила Анна, входя в комнату.
– Ты знаешь, я сейчас подумала, – продолжала Оленька, входя за нею следом, – что они даже не представляют про нас. Понимаешь, им в голову не приходит… Про людей…
– Кому в голову не приходит?
– Кузнечикам!
– Да, наверно, – медленно ответила Анна и подошла к окну. Голоса с реки блуждали и гасли в темноте.
Где-то рядом протарахтел и остановился у окна газик. Желтый свет фар вырвал из темноты округлый кусок земли, осветил серую стенку деревянного домика напротив. Испуганно шарахнулась потревоженная кошка от стены, и в темноте, в кустах, зажглись два зеленых фосфорических огонька. Дрогнула, словно под ветром, примятая увлажненная трава и затихла…
1979
…Сумерки он не любил. Матерые, по-северному пронзительные, они оцепляют деревеньку, как волки, медленно подкрадываясь к ней длинными серыми тенями, а потом броском, тайно хлынут, забивая дворы рыхлою сырою тьмою. В Егоркино всегда загораются холодным закатным заревом окна сапожниковского дома, единственного застекленного в мертвой деревне. Он стоит наособицу, на пригорке, ликом к небу и как бы вчитывается в приближающиеся с закатом небесные знаки. Эдуарду Аркадьевичу кажется, что тоску начинает источать именно этот дом, громадный, рубленный как нахохленная птица, с коньком-клювом и со своими белыми, зловеще вспыхивающими на закате окнами, а потом уже вся деревенька, медленно враставшая во тьму, начинает тосковать своими еще живыми незримыми глубинами, и он ощущал эту тоску физически. Иногда перед закатами Эдуард Аркадьевич слышит лай собак, крик кочетов и мычание коров. Слушает спокойно, зная, что так бывает в мертвых деревнях, но это тоже знаки тоски и сумерек.
Стоит нежный, лучистый октябрь. Земля еще цепляется за остатки тепла, как женщина на исходе своих лет поражает иногда кроткою со щербинкой нежностью. Еще не совсем разделся лес, и в полуголом березняке рыжеет осина, багрово кровянит краснотал и как-то откровенно, бесстыдно дразнят кровавым рубином гроздья рябины. В заросших желтеющих огородах по оставшимся заплотам ползет мокрица, сочная, зеленая, серым свинцом наливается полынь, и чистотел желтыми звездами прорастает сквозь крапиву. Огороды уже зарастают орешником, подростом березняка, светящегося молодой желтизною, на сгнивших крьшах алеет иван-чай, и кое-где еще дикими зарослями вырождается малина. И среди этой петушиной ярмарки суровой серебристой чернью отливает листвяк.
Осенний день короток, как вздох. И пока стоит на промытых свежих небесах крепкое осеннее солнце, пока горят леса, странную осознанную силу набирают воды незлобивой Мезени. Лопотунья в обыденности, она вдруг затихает в эти часы, как бы нарастая изнутри густым синим подшерстком, и особенная рябь сближает ее с замершим перед небесами зверенышем. Без ветра она расслабляется, спокойная, зрелая, глубокая, плывет, как пава, и Эдуарду Аркадьевичу, который часто сидит под солнышком на ее обвалистом берегу, иногда кажется, что он различает обрывки ее беседы с небесами. Странно и страшно здесь живется ему. Странна, дика и несообразна ни с какими физическими законами кажется ему природа. Эти могильные ночи, черные и косматые без луны, а если луна появляется, то ее громадность, без матовости, яркий нестерпимый блеск пугает так же, как и непроглядная тьма. С началом сумерек он все вглядывается сквозь окно в мертвые проемы мертвой деревни, и ему кажется, что не тьмою зарастает она, а самим временем, которое, как песок, зароет скоро ее, а вместе и он, Эдуард Аркадьевич, останется на дне этой могилы, заживо погребенный тьмою и временем. Если, конечно, не вернется Иван. А ведь когда-нибудь так может случиться, и Иван не вернется, и Эдуард Аркадьевич останется один на один с этой чуждой ему русской деревней, брошенной на смерть так же, как и он. Знала бы о его кончине мать, думал он.
Его матушка Серафима Федоровна – душистое чудо детства, одна из тех, кто составлял мудрость и честь исчезнувшего поколения. Она была без всяких натяжек красавица. Высокая, статная, с роскошью черных толстых, с кулак, и длинных, до пят, кос, с которыми она не рассталась до самой смерти, с густыми бархатистыми бровями… Недаром отец ради нее, несмотря на все угрозы и происки, отрекся от своего еврейского клана и, кажется, за жизнь ни разу не пожалел об этом. Кроме того, она была разумна до расчетливости и крепка во всем. Громадное по тем временам для города хозяйство лежало на ее плечах. И вела она его безукоризненно. Чего стоило одно только ее крахмальное белье. Эти скрипящие тугие полотенца… У нее была только одна слабость. Мечта о блестящем музыкальном будущем сына… Она так и видела Эдичку со скрипкою на сцене, а себя в зале… Ей не давала покоя слава Ван Клиберна… Эта ее слабость во многом лишила детства Эдичку… И если бы она знала, что столько трудов, времени, средств – все прахом, что ее Эдичка будет доживать никому не нужным приживалом не в столице, а в мертвой русской деревне, такой же заброшенной, как и он сам, медленно вымирая от голода и холода!..
Эдуард Аркадьевич все солнечное время этих дней проводил на обочине проселочной дороги в ожидании Ивана. С утра, послонявшись по пустому дому, заглянув в холодный и гулкий от пустоты амбар, он гляделся в бане в осколок толстого зеркала, вправленный в бревно предбанника, чесал костлявой пятернею клочковатую, узкую, как у козы, бороденку, надевал на пегую от седины голову потертый серый берет и шел в дом искать очки. Они ему не нужны, иногда мешали, но он привык носить их, выходя на люди, как он считал, для пристойности. Очки старые уже мутили, дужка переносицы сломана и неумело забинтована синей изолентою, и когда Эдуард Аркадьевич их надевал на свой увесистый – вниз – нос, то его серые близорукие глаза становились круглыми, большими и детскими. Потом он старательно чистил грязной столовой тряпкой когда-то зеленый военный плащ, подаренный ему еще матерью, и, размазав засаленную ткань, пригладив височки, выходил на улицу. Плащ просторный и длинный, раздувается на нем, как балахон, путается в ногах. В нем Эдуард Аркадьевич кажется еще длиннее, чем есть, хотя и без того он высок ростом и сутул, и голова его с плотным крупным носом свисает впереди тела, как подсолнух, чуть покачиваясь. Ходит он ровно посредине улицы, не опираясь, но размахивая самодельною тростью, выструганною Иваном, с изразцами и березовым капом вместо набалдашника. С этой тростью он не расстается никогда. И часто, расчувствовавшись, утирает гладкою плотью гриба свои горячие, старческие слезы.
Вторая неделя без Ивана движется медленно, каждым своим часом измождая его. Кончились деньги, хлеб и сахар, махорка – и та кончилась, и он уже не ходит в Мезенцево побираться у продавцов и сельчан, потому что никто ничего не дает и не подаcт. Иногда по случайности или ошибке на поселковую дорогу выскочит потрепанный райповский «бобик», поерзает по красным глиняным ухабинам, заурчит над ухом, обдавая горючим и едким… Не остановится. Остановится заблудшая, как овца, чья-нибудь чиновничья «Волга» или редкий, но давно знакомый этим дорогам зловеще высверкивающий, как щука в заводи, плотными боками новорусский «мерседес». Тогда Эдуард Аркадьевич, путаясь в словах и размахивая тростью, будет горячо и туманно разъяснять, почему заблудились «они», и те бритоголовые, крутые, в длинных дорогих пальто будут молча с опаскою смотреть на него, как на фантом из другого мира, нежданно возникший посреди заброшенных деревень. А Эдуард Аркадьевич, торопясь и захлебываясь словами, все пытается напомнить о куреве, неловко, как бы между прочим, говорит о хлебе и другой нужде. Иногда ему перепадает, чаще он слышит мягкий стук закрывающейся дверцы, и удивляясь этому шуршащему блистающему чуду, проплывающему мимо него, он бежит за ним, взмахивая тростью и договаривая непонятное ни ему, ни тем, мягко отдаляющимся от него. Потом он возвращается, свесив сплющенное яйцо своей головы, и все говорит про себя, читает стихи, или плачет, завидев мелкий косяк птиц в высоком небе, со слезами шепчет: «Полетели, родимые. Милые вы мои, милые…» Плачет он часто. Без Ивана особенно часто, потому что Иван пересмешник, и он с ним бодрится.