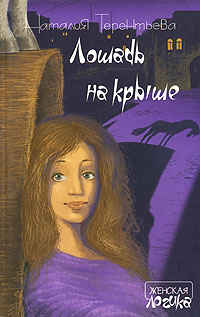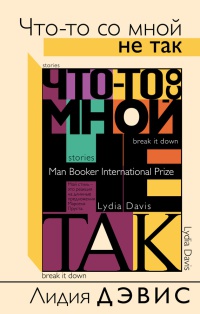Книга Смешанный brак - Владимир Шпаков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А кто она в этом случае? Еще недавно она с пьяным пафосом обличала зажравшихся европейцев, молотила кулаками в грудь: мол, я другая! Но тогда – какая? Вот банальный ритуал, не бином, так сказать, Ньютона, она же ни в зуб ногой. Ритуал не более понятен, нежели камлание якутского шамана, а значит, покойная мамочка зря рисковала карьерой, тайком крестя сестер. Директриса ее школы на дух не переносила «опиум для народа», так что пришлось втайне от коллег и даже родни окрестить Любу, затем Веру…
Воспоминание о покойнице вызывает щипание в носу. Святые на иконостасе вдруг расплываются, по щеке ползет что-то теплое, и становится неожиданно хорошо. Нет, она не чудовище, она – человек. Только кто поможет этому человеку? Ну, помогите же! Святые вновь обретают резкость, но смотрят безучастно, то есть помогать не спешат. Вера пытается вспомнить, «ху из ху». Вот этот, кажется, Иоанн Креститель, с другой стороны Богородица, а вон тот вроде бы Николай Угодник (он же Чудотворец). Вера скашивает взгляд на соседа справа и обнаруживает сходство с Чудотворцем, даже возникает желание именно ему поплакаться в жилетку. Только поймет ли?
Наложив очередной крест, седобородый направляется к лотку со свечками, и Вера за ним. Простые действия: купить свечи, зажечь, поставить – успокаивают, особенно когда исполняются под копирку. К распятию, кажется, ставят за упокой, а Богородице можно за здравие… Из левой алтарной двери появляется священник, прихожане устремляются к нему, а Вера вновь озирает тех, кто призван утишать и вселять надежду. Что ж не вселяете? Слабо вам, видать, иссякли силы, растратились на сирых и убогих…
Почему-то кажется, что Норман тоже мог здесь висеть: он ведь агнец, по сути, люди когда-нибудь это поймут. И хотя Вера понимает, что занимается богохульством, остановиться не может. Если с безучастными святыми не вытанцовывается, почему не оживить в памяти явленное ей чудо? Иконы лишь нарисованы (да и нарисованы-то не очень), а тот был живой, теплый, его можно было взять на руки, когда был маленький, или за руку, когда подрос, и говорить, говорить… Как вот эти со священником говорят, пытаясь выяснить главные вопросы.
Прихожане стоят смиренно, дожидаясь своей очереди. Вот подходит черед «Николая», он склоняется к уху батюшки, а спустя минут пять остается одна Вера.
– Вы хотели о чем-то спросить?
Вера вздрагивает.
– Я?!
– Ну да, вы.
– А почему вы решили, что я хочу о чем-то спросить?
Священник пожимает плечами, сопровождая жест полуулыбкой.
– Глаза у вас такие… Вопрошающие.
Вера молчит, затем надевает очки.
– Нормальные у меня глаза, – говорит она и тут же уходит.
Пустое дело, думает она, тут или Норман, или церковь, которая к сторонним чудесам, как известно, со скепсисом. Она сразу пробует их на зуб, как раньше пробовали золотые монеты: не фальшивые ли? Не иллюзионист ли очередной «чудотворец», нет ли у него чего-нибудь в рукаве или под вторым дном ящика? Но и убедившись в подлинности феномена, клир чешет бороды и выносит вердикт: мол, человекобожие! Нельзя, дескать, поклоняться, грешно; а того не знают, что сам феномен поклонения вовсе не требовал. Если народ туп и глуп, разве мальчик в этом виноват? Если мамаша идиотка, разве Норману надо предъявлять претензии? Ему самому до смерти надоели фокусы, которые заставляли делать дяди и тети, хлопавшие в ладоши и в итоге – прохлопавшие то, что возносили…
Далее наваливается жизнь, придавливает к земле, будто на спину опустили могильную плиту. Среди могильных плит, собственно, и придавливает, когда на кладбище убирается на могилке матушки. Заходит – а там куча травы набросана! А еще мусор какой-то, бутылки пластиковые, высохшие цветы…
Вера озирает стоящие рядом ограды, не понимая: какая сволочь устроила здесь помойку?! В ярости она сгребает мусор, тащит это дерьмо в конец аллеи, а мусорный бак доверху! Приходится бросить рядом. Черт бы побрал наши кладбища, и она – дура, потому что не согласилась захоронить мать в колумбарии, а привезла сюда, едва не в Московскую область. Лучше урну в стену замуровать, и никаких тебе оград, травы и прочей муры – умерла так умерла!
В злосчастном подъезде опять ЧП, потому что консьержка уволилась после ограбления, за визитерами никто не следил, и на тебе – обокрали квартиру! Со взломом, цинично, среди бела дня! Опять милиция ищет свидетелей и, естественно, не находит. И тут – эврика! – хватают дворников-таджиков, по чьему-то навету, дескать, чурки виноваты! Сами они не взламывали дверь, но наводчиками были, ага! Двор гудит, проклиная гастарбайтеров, мол, житья от них нет, а территория между тем медленно, но верно приходит в упадок. Вокруг мусорных баков кучи бумажек, объедков, пластиковых пакетов; и по двору ветер гоняет мусор; и уже кажется: грязь – везде.
Этой стране, думает Вера, подошло бы название: Грязь. Нет, лучше: Большая Грязь. Или: Самая Непролазная Грязь (СНГ). Здесь ничего не меняется к лучшему, и не может меняться. И всяким шагающим в Москву немцам никогда до нее не дошагать, немец обязательно застрянет в грязи. Кстати: с чего она взяла, что тот шагает? Он давно уже повернул обратно. Зажал нос, выпил таблетку успокоительного и, купив билет на скоростной экспресс, катит на родину, поплевывая в окошко. «Дурак, – говорит он себе, – ты должен учиться у истории! Даже моторизованные части вермахта застряли в этой непролазной грязи, а ты куда прешься, дебил?!»
Наконец, дворников выпускают, двор приводят в порядок, но осадок остается. Вера чувствует: ей нужно все это оправдать. И поведение на party нужно оправдать– хотя бы для себя, чтобы не было так тошно. Она знает, кто может это оправдать, но звонить не решается, тут ситуация: и хочется, и колется…
Переход границы с Россией получился символическим, мне даже отказались ставить штамп о ее пересечении. На пограничном пункте, представлявшем собой два вагончика рядом с дорогой, отметки ставили только водителям автомобилей. А таким, как ты, сказали, отметки не требуются.
– Только автомобили, ферштеен? – Пограничник пытался проявить знание немецкого. – А тебе: нихт штамп!
– Но у меня могут быть проблемы на обратном пути…
Пограничник переглянулся с товарищем.
– Слушай, мужик… Иди, если дают зеленый.
Процедура подчеркивала мое ничтожество, мою микроскопическую величину, несоизмеримую с простиравшейся передо мной землей. Я не одну неделю шагаю вдоль трасс и грунтовых дорог, пересекаю леса и поля, а земля, кажется, только начинается. Такая земля может рождать два желания: завоевать ее или затеряться в ней навсегда. Наступить на нее сапогом (очень большого размера!) или раствориться в убегающей к горизонту дали, сделаться дорожной пылью, лесным кустом, камнем на дне реки… Что выбрать? Первое желание, похоже, неосуществимо. А чтобы об этом помнили, вдоль дорог установлено множество памятников, напоминающих о войне. Один массивнее другого, эти обелиски, солдаты с автоматами, танки на постаментах давили меня, превращали в карлика, в комара, севшего на щеку и безжалостно прихлопнутого. Тяжеловесная многотонная память, казалось, вещала глухим, исходящим из-под земли голосом: «Осторожно! Ахтунг! Трижды подумай, легкомысленный нарушитель границы! Может, повернешь назад?»