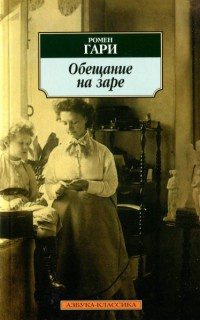Книга Цвета дня - Ромен Гари
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Я тебе верю, — сказала она ему серьезно.
Но когда она оставила его одного и начала потихоньку одеваться, он не смог этого вынести, встал, подошел к ней и сначала раздел ее и только затем помог ей раздеть себя, пока снова не стало хорошо. И когда у него осталась только одна рука, он продолжал лежать, уткнувшись ей в шею, слушая воцарившийся покой. Затем он открыл глаза и увидел на склонах горы розовые, желтые и белые виллы, разбросанные, как остатки какого-нибудь празднества; он закрыл глаза и ощутил лбом и губами ее шею, и был еще мистраль, залетавший в окно с запахом мимозы, но он прогнал его и снова ощущал лишь ее живую шею своим лбом и губами, и уже было некуда идти.
— Жак. — Да.
Она что-то сказала, он не расслышал что, и она заговорила снова, и он сказал: «Я люблю тебя» и уснул, затем проснулся; за это время они так и не пошевелились, ни один, ни другой, и он по-прежнему ощущал ее руку у себя на затылке» но виллы на горе были теперь совсем голубыми, подернутыми серо-голубой дымкой, и он видел ее профиль, лежал у нее на плече и видел ее профиль, — ее голова была слегка запрокинута назад, она курила сигарету, полуопущенные ресницы, очень прямой нос обрывался как раз тогда, когда собирался задраться вверх, — и он смотрел на два уголка губ, где жила ее улыбка. Он оперся на локоть и поцеловал ее волосы, и это поистине был один из тех моментов, когда у вас все есть.
— Завтра мы встанем, — объявила она. — Прогуляемся по деревне. Обещаешь?
— Обещаю. Нельзя держать все это при себе. It's Harding[24], как говорят англичане. У меня такое чувство, будто я захватил три четверти земного счастья. Мы прогуляемся. Это доставит им удовольствие.
— Почему?
— Они южане. Нужно, чтобы и им перепало. Все чесночные страны такие. В чесночных странах когда видят счастливых людей, то испытывают такое ощущение, будто и сами что-то приобрели.
— А в бедных бесчесночных странах?
— В бесчесночных странах когда видят счастливых людей, то чувствуют себя обворованными.
— По сути дела, ты ксенофоб, как и все французы, — заключила она. — Но в любом случае завтра нам нужно встать.
При одной только мысли об этом они еще сильнее прижались друг к другу.
— Мне бы хотелось навсегда остаться в Провансе, — сказала она.
Он вспомнил оливковые поля такими, какими их видишь из Бо, когда садится солнце и тени устремляются вниз, но взгляд отказывается уступить им равнину, и Франция — как рука, которую держат в своей руке и не хотят отпускать. В последний раз он видел их с Луи Жуве, а теперь вот Жуве умер, но пейзаж по-прежнему здесь, так что все в порядке.
— Я проголодался.
— Пойду посмотрю, что у нас есть, — сказала она.
Она встала, надела спортивный костюм и свитер, которые он ей одолжил, и он рассмеялся, увидев, как его белый свитер Королевских военно-воздушных сил на старости лет украсился двумя маленькими острыми грудями.
— Помочь тебе?
— Нет, все в порядке. У нас еще есть салями, козий сыр и салат из помидоров.
Они сели за стол, покрытый красной клетчатой клеенкой, не зная даже, утро сейчас или вечер, первый день или последний; когда они приоткрывали дверь, то находили на ступеньках пакет с продуктами, — сама домработница никогда не показывалась, ее предупредили соседи. Ну много ли найдется мужчин, которым повезло и они могут вот так жить, думал он иногда и тотчас старался не уступать и сохранить достоинство, которое состоит в том, чтобы быть счастливым вопреки всем законам жанра, сохранить достоинство свободного и непокорного человека; но вот однажды он услышал свои собственные мысли: как бы там ни было, я здесь лишь на десять дней, а это примерная продолжительность оплачиваемого отпуска, который полагается каждому французскому трудящемуся, меня, право, не в чем упрекнуть, это даже на пять дней меньше, чем оплачиваемый отпуск, на который все имеют право. Но осада продолжалась, это просто был голос всего пуританского и извращенного, пытавшегося таким образом испортить все источники здоровья, пытавшегося коварно похитить его достоинство, пытавшегося кастрировать его. Но все же ему пришлось прильнуть к губам Энн, и там он вновь обрел смысл своего благополучия и достоинство быть счастливым вопреки всем уловкам и проискам врага, вопреки всем силам обскурантизма и закабаления.
— Жак…
— Что?
— Спи.
— Пожалуйста.
Мои губы отлетели вместе с моими поцелуями, стертые, унесенные ими, погасшие. Едва касаясь, они ощупывают твою шею, и кто-то вздыхает, и я не знаю, ты это или я, кто — то — это другой, я не знаю, какой из двух. Мы — одно целое, у меня такое чувство, будто я почти один, и даже когда ты шевелишься, я чувствую не тебя, а место, где я кончаюсь. Твоя рука еще в моих волосах, но это забвение. Наши губы еще вместе, но рты наши уже больше нуждаются в воздухе, чем в поцелуях. От ночи исходит благоухание мимозы, и я пью его полной грудью — а ведь оно не ты. Моя рука еще касается твоей груди — но это ласка, недостойная ее. Однако я отказываюсь сдаваться. Отказываюсь заканчивать. Отказываюсь уступить законам жанра, нервам, сердцу, крови; закон может заставить меня уснуть, но ему не помешать мне видеть тебя во сне. Я жалею лишь о том, что мне не хватает таланта. Людям не хватает таланта. Ни у кого его никогда не было. Все, на что мы способны, так это заполнять музеи, возводить соборы, строить дамбы, сочинять симфонии: Петрарка, Шекспир, Данте, Фидий, Микеланджело… Скульпторы по камню! Но что же такое талант, если никто ни разу не воплотил его в поцелуе на губах любимой женщины? Подвинься ближе. Я знаю, ты не можешь, и все же придвинься ближе. Еще… Так. Ничего страшного: подышим потом. Вот так. Пусть теперь нам с тобой вдвоем будет недоставать таланта.
Жак…
Не зови меня. Не произноси моего имени. Можно подумать, нас двое.
Жак, ты все-таки уедешь?
Нет, дорогая. Я уже не еду, решено. Я спрячусь. Сменю имя, выберу другое, мирное имя, чтобы счастливо жить инкогнито, этакий псевдоним, чтобы любить, и отныне я буду откликаться только на это имя, и оно будет известно только нам двоим. Я не отвечаю больше на призыв: пусть себе орут. Меня здесь ни для кого нет, мои добрые друзья, и если меня будут спрашивать, вы скажете, что месье нет дома: он счастлив… Энн, цыпленочек мой, что я такого сказал, почему ты плачешь?
Оставь меня.
Ты сердишься на меня?
Не шути с этим. Я точно знаю, ты все равно уедешь.
Я объясню тебе. Объясню. Ты увидишь. Поймешь.
Нет.
Как нет?
Я никогда не пойму. Но это ничего. Когда нам выпадает счастье любить кого-то, нам почти всегда выпадает несчастье любить его таким, каков он есть. Тут ничего не поделаешь. Таков закон.
Ближе к середине ночи он зажег свет.