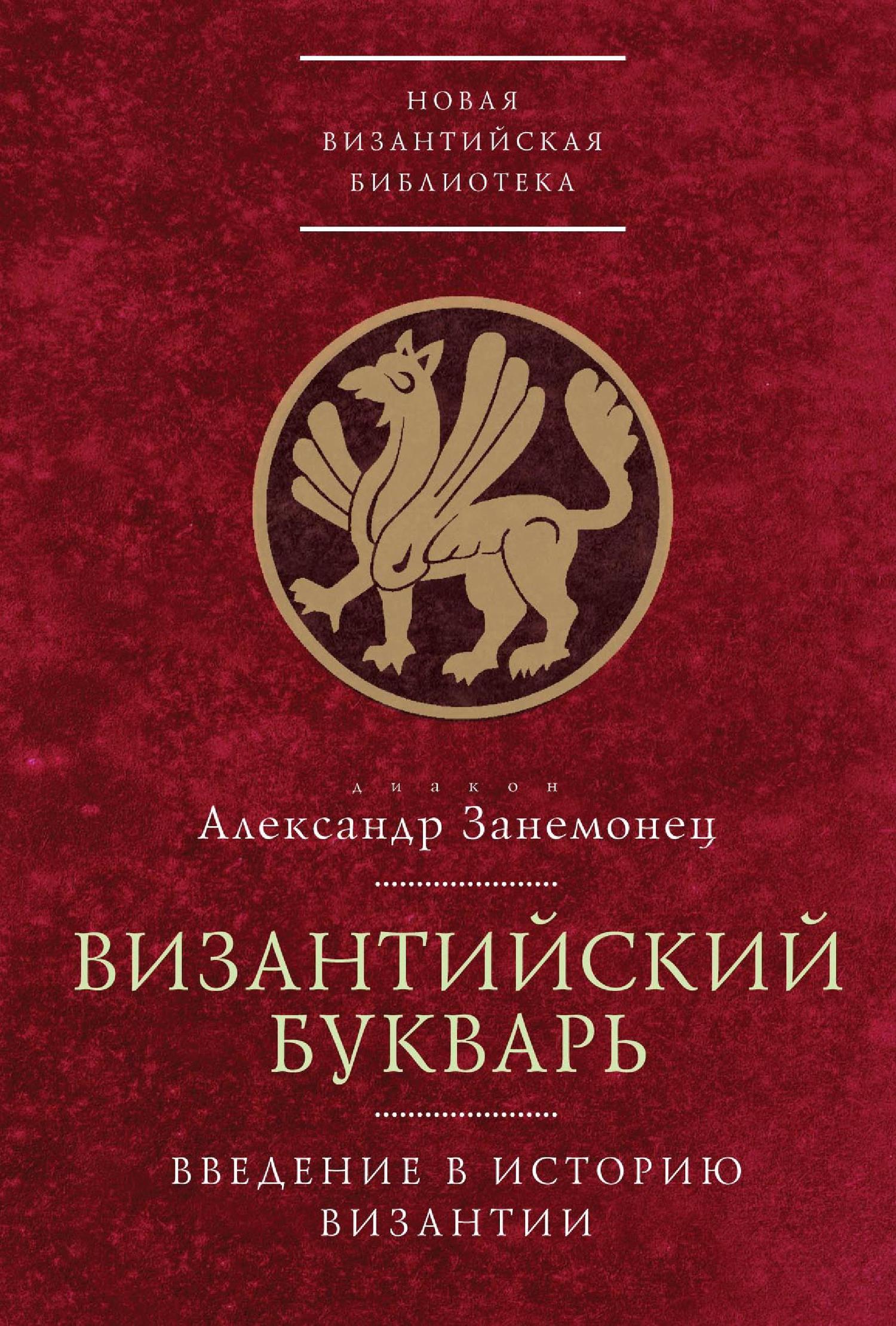Книга Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как мало осталось в нашей литературе страсти, задора, любви к своему делу, беспокойства за его судьбу! Чем, кроме того, что «писатель пописывает, читатель почитывает» можно объяснить молчание, которое одно только было ответом на эти оценки Ремизова? Ведь даже «словесная бездарность» Толстого никаких возражений не вызвала. Прочли, в лучшем случае покачали головой, – и только.
Откроем «Хозяина и работника», например, прочтем из этой повести одну страницу, а затем любую страницу ремизовскую, притом не касаясь общего впечатления, ограничиваясь лишь вниманием к слогу, к языку и языковой ткани. Не думаю, чтобы могли возникнуть разногласия: подлинная жизнь – у Толстого, а у Ремизова, при всей его изощренности, при всем его искусстве, что-то очень похожее на стилизацию, на подделку под совершенную непринужденность, с нарочитостью, с усилием, дающими себя знать повсюду. Нет, Аввакум, к которому Ремизов постоянно взывает, писал не так, и Толстой к несчастному протопопу, подлинно необыкновенному писателю, бесконечно ближе, – вероятно, именно потому, что пишет без стилистических завитушек и ухищрений, думая о том, как бы вернее сказать, как бы сильнее и правдивее сказать, а не о том, как бы сказать узорчатее, хитрее, будто бы свободнее, будто бы народнее. (А отталкивания от газетного стиля было у Толстого не меньше, чем у Ремизова: «Если будет газетный язык в нашем журнале, то все пропало», – писал он в 1884 году Бирюкову, уговаривая его стать редактором предполагавшегося издания. И кстати тут же сочувственно вспомнил язык Аввакума.) Даже если признать, что в ходе развития русской литературной речи были допущены заблуждения, в которых повинны и Ломоносов, и Карамзин, и даже ненавистный Ремизову Грот со всеми его учениками и последователями, – даже если согласиться, что действительно словесное богатство некоторых старинных памятников неисчерпаемо, неужели так слаб наш язык, скажем, у Лермонтова или у того же Толстого, что он сам себя не выпрямил, не отстоял, не превратил французскую оболочку в русскую сущность, не восстановил, хоть и в новом виде, своей прежней мощи? Не привожу никаких доводов, ссылаюсь лишь на слух и чутье: неужели не ясно, что именно Ремизовым владеет страх за язык и недоверие к нему, – как бы не выразиться по-французски! – а в «Хозяине и работнике», с Гротом или без Грота, все остается одинаково естественно, свободно, и течет в самом русском изо всех возможных языковых русел!
Если бы мы при чтении Толстого или даже Тургенева замечали и чувствовали, что вот пишут они так-то, а говорим мы совсем по-другому, Ремизов, пожалуй, был бы прав. Но ведь этого нет. Скорее, читая Ремизова, мы удивляемся, кто говорит такими переливчатыми периодами, с несколькими десятками придаточных предложений, ни за какое главное не держащихся, будто из живого тела вынули скелет? Никто, – а если бы кто-нибудь так и принялся говорить, это была бы литература, «литературщина», по-своему стоющая «мастеров льда», во что-то «влагающихся» (в таком приблизительно духе говорил иногда Клюев, и это бывало нестерпимо фальшиво, как, впрочем, фальшив был он весь, насквозь, хотя и был очень даровит. Отдадим справедливость Ремизову: он так не говорит!). Нельзя между тем допустить, что теперь мы не только пишем, но и говорим по указке всевозможных Гротов: это было бы слишком большой для них честью. Разговорный язык слагался у нас, как впрочем и везде, в стороне от грамматических насилий, под различными перекрестными влияниями, одно отбрасывая, другое усваивая, и как всякий подлинно живой организм переваривая, претворяя в свое то, что было чужим. К разговорной речи хотел когда-то приблизить речь книжную Карамзин. Но в его время само понятие русского разговорного языка было неясно и шатко, и во всяком случае люди его круга, предпочитавшие язык французский, считали своей обязанностью и привилегией выражаться по-русски иначе, нежели представители средних классов, а тем более простой народ. Достаточно сравнить язык Крылова, действительно подслушанный у самых источников живой речи, с языком карамзинским, чтобы это почувствовать. С тех пор, однако, дело изменилось, и опять-таки, надо сказать, по причинам социально-историческим скорей, чем по побуждениям чисто лингвистическим. Перегородки исчезли, все слои смешались. Просвирни! Дайте любой просвирне прочесть Ремизова, она не поймет и половины, а «Хозяина и работника» поймет. Как ребенок чувствует, когда с ним говорят «по-детски», так наверно народ, даже в самых своих глубинах, где-нибудь еще уцелевших, уловил бы, что с ним хотят говорить «народно». И наиболее книжным, самым далеким от истинного словесного творчества оказался бы язык, где больше всего заботы о близости к нему. Да и вообще, как в вечном изречении о том, что спасти душу можно только погубив ее, так и со словом: писать хорошо можно, лишь не видя своей цели в том, чтобы писать хорошо! «Все прочее – литература».
Эти замечания – вовсе не опровержение, и даже не попытка опровержения ремизовской языковой и стилистической проповеди. Для опровержения или хотя бы только критического разбора, нужна была бы систематичность и последовательность. Замечания мои, так сказать, «импровизационны» и вызваны они общими мыслями о Ремизове при чтении и перечитывании его книг. Спор с ним не может не быть страстен, даже запальчив: речь ведь не о нем самом, – о его даровании, о его искусстве спору нет! – а о нашем драгоценнейшем достоянии, о русской речи. Читая о «словесно бездарном» Толстом, начинаешь сомневаться и тревожиться: куда хочет Ремизов нас завести?
К Гоголю у Ремизова отношение особое, и не только к языку его. Ни о ком другом не говорит он с таким восхищением и даже трепетом: «гений», «магия», «оркестр» – эти слова у него сбережены для Гоголя, без единой отрицательной оговорки. Нет сомнения, что величайшее явление нашей литературы для Ремизова – именно Гоголь.
Удивительно, что два современных русских писателя, друг другу во всем противоположные, и насколько мне известно, отнюдь не склонные к взаимной высокой оценке, Набоков-Сирин и Ремизов, – оба выделяют Гоголя и от него ведут свою родословную. Но Набоков уловил у Гоголя черты, отчетливо отразившиеся в «Носе» и тех вообще гоголевских писаниях, в которых не обошлось как будто без сотрудничества Хлестакова, с его «легкостью в мыслях необыкновенной». Набокова прельщает Гоголь скользящий, летящий, свистящий, да, гениальный, и тут, и в этом, бесспорно, но от груза обычных земных забот и помыслов освободившийся. У Ремизова гораздо больше влечения к взвинченно-романтической и фантастически-фольклорной стороне гоголевского творчества, и