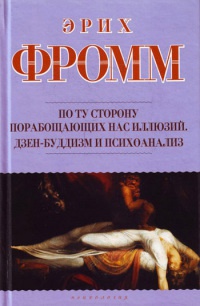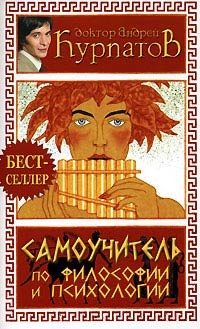Книга Время утопии. Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха - Иван Болдырев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пафос тотального мироотрицания Блох впоследствии сочетает с идеей прояснения тайны человечности. Отвергая современный мир, человек ничуть не теряет, напротив – обретает самого себя (AC, 240). Другое дело, что у раннего Блоха этот человек сгорает в ницшеанском костре, ибо радикализм гностических идей, как и любое абсолютное мироотрицание, всегда жжется – об этом свидетельствует, в частности, история рецепции Гарнака.
Перенимая стиль мысли гностиков, Блох вместе с тем отвергает гностический миф как миф. Говоря о чуждости человека миру, о его удаленности от Бога как об аномалии, он утверждает, что упразднить такое положение вещей, описывая переживания в абстрактных аллегориях или в традиционной символике, не получится. Пышная и отягощенная подробностями гностическая мифология для Блоха недостаточна, он стремится, вооружившись дуалистической метафизикой, привнести в свои тексты момент личностной непосредственности и тем самым, как это ни странно, от мифологии перейти к истории.
Интерес Блоха к апокалиптике и мессианизму был вполне созвучен его эпохе, «которая охвачена трепетным чувством какого-то стремительного, неудержимого, непроизвольного даже движения вперед, смутным ощущением исторического прорастания» и для которой апокалиптика прошлого «становится… историческим зеркалом… средством духовного ориентирования»[346]. Неслучайно Осип Мандельштам приблизительно в то же время «слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!»[347]
Изначальная ситуация экзистенциального и апокалиптического философствования у Блоха – опыт разорванности и бессмысленности бытия, ощущение всеобщей деградации, столь характерное для интеллектуалов его эпохи. Одним из важных свидетельств коллапса европейской культуры и полной победы рациональной техники и цивилизации стала для Блоха мировая война. Вместе с тем потеря ориентиров и полная ценностная неопределенность в эпоху fin de siecle не были тождественны беспринципности, интеллектуалы искали новые ценности, фиксируя и отчаяние, и потерю прежней идентичности. Апокалиптика и мессианизм – особенно среди образованной еврейской молодежи – стали реакцией на секуляризацию и попыткой выстроить иную культуру и новую метафизику. Однако говорить об этих поисках всерьез можно, лишь ощущая за плечами дыхание тысячелетней религиозной традиции.
У Блоха гностические и апокалиптические мотивы трудно различить[348]. Причина, во-первых, в том, что хилиастические умонастроения, пророчества о тысячелетнем царстве Христа выросли из гностических идей, и, во-вторых, конечно, в историчности самого гнозиса (ведь рассказ об отпадении разворачивается в истории). Разумеется, оценка самой этой истории в текстах раннего Блоха резко отрицательная: он, как и гностики, не верит в прогресс разума[349].
Избавление от пораженного инструментальной рациональностью мира свершается в глубинах души. Исходная же ситуация современности, диагноз ее, служивший отправной точкой и для Блоха, и для Лукача, хорошо сформулирован у Вебера:
По мере того как аскеза начала преобразовывать мир, оказывая на него все большее воздействие, внешние мирские блага все сильнее подчиняли себе людей и завоевали наконец такую власть, которой не знала вся предшествующая история человечества. В настоящее время дух аскезы – кто знает, навсегда ли? – ушел из этой мирской оболочки… победивший капитализм не нуждается более в подобной опоре с тех пор, как он покоится на механической основе[350].
Апокалиптические настроения усугублялись мировой войной.
Кого защищали?
– спрашивает Блох в «Духе утопии». —
Защищали лентяев, убогих, лихоимцев. Кто был молод, тот должен был пасть, а подлецы спасены и сидят на теплом месте. Среди них потерь нет, но те, другие, кто размахивал знаменами, мертвы. Художники защищали спекулянтов… триумф глупости – под защитой жандарма, и вторят этому восторженные возгласы интеллектуалов (GU1, 9).
Ощущение того, что мир расколдован, что он распался, есть не только в текстах Блоха, но и у экспрессионистов из его поколения, которым он столь многим обязан (GU2, 212). Это же ощущение хорошо выразил немецкий поэт Готфрид Бенн:
Действительность, эта так называемая действительность, стояла ему (поколению экспрессионистов. – И. Б.) поперек горла. Впрочем, ее уже и не было вовсе, остались лишь гримасы. Действительность была капиталистическим понятием. Действительность – это были парцеллы, продукты промышленности, кредитные записи ипотеки, все то, что можно было снабдить ценой… дух лишился действительности. Он обратился к своей внутренней действительности, к своему бытию[351].
Для Блоха чуть ли не единственная форма постижения тайн нового мира – искусство. В «Духе утопии» мистические, религиозные настроения естественным образом соединяются с искусством экспрессионизма и вдохновляются им. Обсуждая Ван Гога и Сезанна (GU2, 45–48), Блох соотносит свое мышление с общими принципами экспрессионистской эстетики и находит в современном ему искусстве «целостное экстатическое созерцание» субъективности (GU1, 47). Благодаря сверхъестественной силе искусства вещи перестают быть мертвым антуражем, вечной тавтологией, и когда в них мы встречаемся с самими собой, видим, наконец, человеческий лик, и эта одушевленная мистическая вселенная откликается нам как всечеловек («макан-тропос»), тавтология рушится, возникает новый мир. Наследие экспрессионизма проявляется и во внимании к простым, часто незаметным мелочам (вспомним описание кувшина в самом начале «Духа утопии») и вообще к предметности повседневной жизни. Эстетика становится обоснованием философии истории, а мистическое переживание искусства легко переходит в эсхатологию. Новая эсхатологическая очевидность дарует нам истину, «которая не берет больше, а дает, которая больше не постигает, а, именуя, трудами и молитвами назначает» (GU1, 388f.).
Поэтому искусство 1910-1920-х годов, многим казавшееся проповедью распада и тлена (и в живописи, и в литературе), так притягивало Блоха: он видел в нем нервное средоточие своей эпохи. Не только музыка, но и язык (более понятный медиум) становятся у него элементом мессианского постижения, чтение аллегорий – жестом, указующим в неведомое. Мессия должен был сойти с книжных страниц, переживаться в настоящем времени, он и был для Блоха этим временем – временем нового звучания новых слов. Но постичь призыв мессии можно, лишь осуществив герменевтическое усилие, постаравшись расшифровать будущее. Это означало – жить с историей и в истории, не удовлетворяясь повторением, открыв в себе умение видеть преизбыток исторического времени, его подкладку.
В экспрессионистской литературе эсхатологические настроения были чрезвычайно распространены. Они возникли как осознание разрыва между миром мистической сосредоточенности художника и миром реальным. Мгновение соответствия идеала и реальности отодвигается здесь в конец истории или вообще выносится за ее пределы – мистическое переживание дополняется эсхатологическим событием апокалипсиса. Это историческое измерение не всегда присутствует в экстатической религиозности, тогда как у Блоха оно ощутимо с самого начала (GU1, 383).