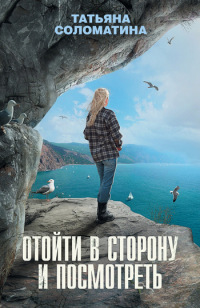Книга Право на безумие - Аякко Стамм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А уже через месяц с небольшим Богатов украл её,… как далёкие-далёкие кочевые нурины предки крали чужих дочерей и делали их своими жёнами. Она полностью отдалась его воле, наверное, потому, что подсознательно понимала – такой человек как Аскольд способен украсть кого угодно и непременно украдёт кого-нибудь, если сегодня, сейчас она упустит свой шанс.
Теперь Нури смотрела на тихо сопящего во сне мужчину рядом, вспоминала и плакала. В голове её неудержимо бежали стада диких бегемотов, улыбались, кивали большими мясистыми мордами и неизменно приносили в огромной зубастой пасти охапки свежих, благоухающих цветов. Она была глубоко несчастна своей оставленностью, ушедшими, казалось, в историю впечатлениями восьми прожитых лет, по которым можно писать романы. Она не испытывала даже облегчения от того, что рядом с ней, в её постели сейчас был мужчина – не тот мужчина, не её мужчина, совсем не такой. Это был маленький, тщедушный человечек – столяр с той лодочной станции, где она нынче работала – непритязательный, по-своему добрый, слабый как ребёнок, неухоженный, оставленный пару лет назад женой и цедящий теперь по капле, как и она, своё одиночество. Они как-то вдруг сблизились. Ей было жалко и его, и себя. В большей степени себя. «Ну, пусть такой…, хоть какой…, слава Богу, что не одна», – часто думала про себя Нури, убеждаясь в правильности шага. Ведь это так важно для женщины – быть не одной. Но она пребывала и в безнадёжном счастье от того, что её любимый человек нашёл, наконец, себя. Пускай и без неё. Да разве это главное?
И вот буковки, слова, предложения на мониторе компьютера, случайно привлекшие к себе и держащие теперь жёсткой хваткой её внимание. На улице лениво, но безутешно хнычет ноябрь, носится туда-сюда безумный ветер, срывая с уже оголённых деревьев последние лоскуты листвы, да уныло желтеет одинокий фонарь напротив окна, высвечивая из тёмной пустоты природного увядания оставшиеся куски красоты. В том числе и её красоты, её молодости, не то чтобы пришедших в полный упадок, но всё же существенно потускневших за последние девять лет после возвращения из монастыря.
Аскольд вернулся вскоре, уже в июле того же года. Он не смог оставаться в тихой монашеской келье, из которой не видно, не слышно, вообще недосягаемо – как там его Нури. Как живёт? Чем живёт? Да и живёт ли? Аскольд приехал неожиданно, внезапно, реально негаданно, как снег на голову в середине лета, и снова, как восемь лет назад украл её теперь уже из маленького летнего домика близ Пирогово, оставив тихо посапывать во сне какого-то незнакомого, чужого, непонятно как тут оказавшегося мужчину. Пускай себе спит. Приятных ему сновидений.
Нури опять, в который уже раз начала жизнь снова, с нуля. Ни жилья, ни работы, ни денег, ни перспектив на более-менее сносное будущее. Ничего, что могло бы успокоить и облагонадёжить тридцатидевятилетнюю женщину. Но зато она снова была рядом с ним, со своим мужчиной, с Аскольдом. А с ним ничего не страшно, с ним всё возможно, всё реально. Его безграничные фантазии настолько заразительны, что в них невозможно не верить, и настолько многообещающи, что даже если исполнится всего малая часть их, этого хватило бы для жизни. А много ли нужно настоящей женщине? Ведь рядом с ней любимый, а это уже целая вселенная.
Девять лет назад она отдала мужа Богу, и хотя ей было одиноко, но не было жаль. Сегодня, сейчас Нури понимала, чувствовала, что снова вынуждена отдать его,… но на этот раз чужой женщине. А это уже совсем другое.
«ДОБРОЕ УТРО, МИЛАЯ, ЛЮБИМАЯ, ЕДИНСТВЕННАЯ МОЯ ДЕВОЧКА! – кричали буквы с монитора, словно приговор. – С ТЕХ ПОР, КАК Я ВСТРЕТИЛ ТЕБЯ, МОЯ ЖИЗНЬ КРУТО ИЗМЕНИЛАСЬ! МНЕ СНОВА ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ НОВОМУ ДНЮ, КАЖДОМУ ЛУЧИКУ СОЛНЦА, УЛЫБАТЬСЯ КАЖДОМУ ВСТРЕЧНОМУ ПРОХОЖЕМУ И ОТ ДУШИ ЖЕЛАТЬ ЕМУ ЗДРАВСТВОВАТЬ! ТЫ ЗНАЕШЬ, ЭТИМ ХМУРЫМ НОЯБРЬСКИМ УТРОМ, ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ПРОСНУВШИСЬ, Я ЗАГАДАЛ НА УДАЧУ, ЧТО ЕСЛИ ВОТ СЕЙЧАС, СИЮ ЖЕ МИНУТУ НЕ ВСТАНЕТ СОЛНЦЕ, НЕ РАССЕЕТ ПЛОТНУЮ ТЯЖЁЛУЮ ТЬМУ, НЕ РАСТОПИТ ХОЛОДНЫЙ МОКРЫЙ СНЕГ И НЕ ВЫСУШИТ ЗЕМЛЮ, ЕСЛИ ОНО ЛАСКОВЫМИ ИГРИВЫМИ ЛУЧИКАМИ НЕ ЗАПУСТИТ В НЕБО СТАИ РАЗНОЦВЕТНЫХ БАБОЧЕК, ОТ КОТОРЫХ ТАК ТЕПЛО И ЛЕГКО В ГРУДИ, ЕСЛИ ВСЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПОКРОЕТСЯ В ТУ ЖЕ СКУНДУ РАЗНОЦВЕТНЫМ КОВРОМ ИЗ РОЗ …, ЕСЛИ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ, ТО ТЫ НЕПРЕМЕННО СТАНЕШЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ!»
Нури читала, и слёзы обиды, негодования, разочарования рекой текли из её покрасневших глаз. Она не понимала, никак не могла поверить в то, что это реальность, что всё это происходит на самом деле,… с ней происходит.
«Почему? Зачем? За что? – вопрошала она в пустоту, но ответа не получала. – Зачем он так со мной? Может я плохой человек и никудышная женщина…, наверное…, может быть…, но он…, почему он так после всего того, что мы пережили вместе? Он предал меня, разбил, растоптал, уничтожил! За что?! За что?! За что?! Неужели я настолько ему противна и ненавистна, что все наши семнадцать лет вот так, одним росчерком? Будто он и не жил вовсе, а только терпел меня рядом. Только сейчас, теперь, с ней ему „СНОВА ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ“. А раньше? А со мной? Что же, я ему враг что ли?»
Множество памятников воздвигнуто руками человеческими. Все они мужчинам – заслуженным, отмеченным в истории, великим. А вот памятника маленькой женщине не сразу и найдёшь. Нет его. А зря. Ведь все эти великие рождены ею, вскормлены, взращены, возлюблены, вдохновлены… и отпущены с миром. А она что ж? Она велика своей малостью, терпением, прощением. Нет существа преданнее, нет друга вернее, как нет никого более ранимого и безответного. Она словно бабочка лёгкая и невесомая, ни зла от неё, ни упрёка никому, никогда. У кого поднимется рука убить бабочку? Ведь она не жалит, не кусает, не жужжит над ухом, вытягивая из воспалённого мозга оголённый нерв. Порхает только над головой тихо-тихо, низко-низко, близко-близко. От неё одна лишь красота, восторг и умиление.
Но вездесущие великие и не очень натуралисты, исследователи прекрасного, собиратели его и ценители лёгкой рукой отлавливают доверчивых бабочек и устраивают из них сухой, мёртвый гербарий, консервируя красоту для своего личного интерьера. Она и тогда не кусает, только плачет.
Не обижайте маленькую женщину. Ведь живая она много краше и волшебнее самого полного, самого редкостного, самого экзотического гербария.
Большой белый дом с колоннами погружался в полном одиночестве в ночь. Дачный сезон закончился более месяца тому назад, ещё в начале октября, и другие дома, соседи его по посёлку как-то вдруг опустели, обезлюдели. Всё было тихо и покойно, как на самой заре мироздания, когда человек своей неутомимой энергией и волей не пометил ещё землю пороком. Не осветил и святостью.
В самой глубине посёлка, там, где могучие, в три обхвата стволы векового леса вплотную подступали к изгороди, между любовно посаженных деревьев аккуратного фруктового садика возвышался большой белый дом с колоннами. Тот самый, что в полном одиночестве тихо теперь погружался в ночь. Он был единственным, где ещё теплилась пока жизнь, судя по одиноко струящемуся свету в окошке второго этажа. В этом свете угадывалось присутствие человека. Это окошко да жёлтый фонарь напротив оставались последними признаками жизни на много вёрст окрест.