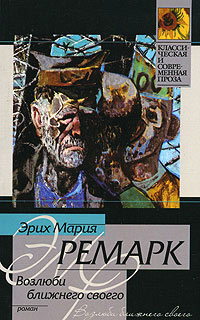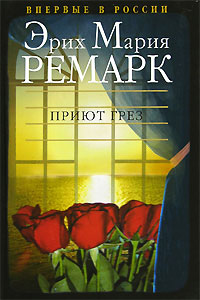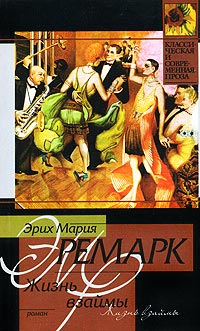Книга Обетованная земля - Эрих Мария Ремарк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лахман убито кивнул.
— Я как чума, — пробормотал он. — Я знаю. Но для себя-то я даже хуже чумы!
Мойков прислушался, глядя наверх.
— Схожу-ка я на всякий случай взглянуть на Рауля.
С этими словами он встал и направился вверх по лестнице. Для человека его возраста и комплекции у Мойкова была на редкость легкая походка.
— Что мне делать? — вздохнул Лахман. — Ночью опять видел свой сон. Всегдашний мой кошмар. Будто меня кастрируют. Эсэсовцы в своем кабачке. Причем не ножом, а ножницами! Я проснулся от собственного крика. Может, это тоже из-за полнолуния? Я имею в виду — что ножницами.
— Забудь, — сказал я. — Эсэсовцам не удалось тебя кастрировать, и это очень заметно.
— Заметно, говоришь? Конечно, заметно! У меня на жизнь шок остался. К тому же отчасти им это все же удалось! У меня раны и тяжкие телесные повреждения. Перелом вон ужасный. Женщины надо мной смеются. А нет ничего ужаснее в жизни, чем смех женщины при виде твоей наготы. Этого забыть нельзя! Потому я и гоняюсь за женщинами, у которых у самих физические недостатки. Неужели непонятно?
Я кивнул. Всю эту историю я знал наизусть — он мне ее рассказывал уже раз двадцать. Я даже не стал спрашивать его, чем кончилось дело с лурдской алкогольной водицей. Слишком уж он нервный сегодня.
— Сейчас-то тебе здесь что надо? — спросил я Лахмана.
— Они собирались сюда зайти. Что-нибудь выпить. Сейчас, наверное, в кино пошли, лишь бы от меня отделаться. Обед я им оплатил.
— На твоем месте я бы не стал их ждать. Пусть сами тебя дожидаются.
— Ты считаешь? Да, вероятно, ты прав. Только трудно это. Если бы не клятое одиночество!
— Неужели твоя работа никак тебя не выручает? Ты же торгуешь четками, иконками, общаешься с кучей всякого богобоязненного народа. Да и вообще — неужто к этому делу никак нельзя подключить Бога?
— Ты с ума сошел! Он-то чем тут поможет?
— Мог бы облегчить тебе смирение. Бога выдумали, чтобы люди не восставали против несправедливости.
— Ты это всерьез?
— Нет. Но в нашем шатком положении можно позволить себе лишь минимум твердых принципов. Надо хвататься за любую соломинку.
— Какие вы все чертовски надменные, — сказал Лахман. — Прямо диву даюсь. Что у тебя с работой?
— Завтра с утра начинаю у одного антиквара: разборка и каталогизация.
— За твердое жалованье?
Я кивнул.
— Ну и зря! — сказал Лахман, мгновенно оживляясь; порадовался возможности дать поучительный совет. — Переключайся на торговлю. Сантиметр торговли лучше, чем метр работы.
— Я учту.
— Только тот, кто страшится жизни, мечтает о твердом жалованье, — колко заметил Лахман. Поразительно, до чего быстро этот человек умел переходить от уныния к агрессии. «Еще один экстремист», — подумал я.
— Ты прав, я страшусь жизни, прямо верчусь от страха как псина от блох, — заметил я миролюбиво. — Благодаря этому страху только и живу. Что против этого твой маленький сексуальный страх? Так что радуйся!
По лестнице уже спускался Мойков.
— Спит, — объявил он торжественно. — Три таблетки секонала все-таки подействовали.
— Секонал? — оживился Лахман. — А для меня не осталось?
Мойков кивнул и вынул пачку снотворного.
— Двух вам хватит?
— Почему двух? Раулю вы дали три, почему же мне только две?
— Рауль потерял Кики. Можно сказать, вдвойне потерял. Сразу на два фронта. А у вас еще остается надежда.
Лахман явно собрался возразить — такого преуменьшения своих страданий он допустить не мог.
— Исчезни, — сказал я ему. — При полнолунии таблетки действуют с удвоенной силой.
Лахман, ковыляя, удалился.
— Надо было мне аптекарем стать, — задумчиво изрек Мойков.
Мы начали новую партию.
— А Мария Фиола правда была здесь сегодня вечером? — спросил я.
Мойков кивнул.
— Хотела отпраздновать свое освобождение от немецкого ига. Городок в Италии, где она родилась, заняли американцы. Раньше там немцы стояли. Так что она тебе уже не подневольная союзница, а новоиспеченная врагиня. В этом качестве просила передать тебе привет. И, по-моему, сожалела, что не может сделать этого лично.
— Боже ее упаси! — возразил я. — Я приму от нее объявление войны, только если на ней будет диадема Марии Антуанетты.
Мойков усмехнулся.
— Но тебя, Людвиг, ждет еще один удар. Деревушку, в которой я родился, русские на днях тоже освободили от немцев. Так что и я из вынужденного союзника превращаюсь в твоего вынужденного неприятеля. Даже не знаю, как ты это переживешь.
— Тяжело. Сколько же раз на твоем веку этак менялась твоя национальность?
— Раз десять. И все недобровольно. Чех, поляк, австриец, русский, опять чех и так далее. Сам-то я этих перемен, конечно, не замечал. И боюсь, эта еще далеко не последняя. Тебе, кстати, шах и мат. Что-то плоховато ты сегодня играешь.
— Да я никогда хорошо не играл. К тому же у тебя, Владимир, солидная фора в пятнадцать лет эмиграции и одиннадцать смененных родин. Включая Америку.
— А вот и графиня пожаловала. — Мойков встал. — Полнолуние никому спать не дает.
Сегодня к старомодному, под горло закрытому кружевному платью графиня надела еще и боа из перьев. В таком наряде она напоминала старую, облезлую райскую птицу. Ее маленькое, очень белое личико было подернуто мелкой сеткой тончайших морщин.
— Ваше сердечное, графиня? — спросил Мойков с невероятной галантностью в голосе.
— Благодарю вас, Владимир Иванович. Может, лучше секонал?
— Вам угодно секоналу?
— Не могу заснуть Да вы же знаете, тоска и мигрень замучили, — посетовала старушка. — А тут еще эта луна! Как над Царским Селом. Бедный царь!
— А это господин Зоммер, — представил меня Мойков.
Графиня милостиво скользнула по мне взглядом. Она явно меня не узнала.
— Тоже беженец? — спросила она.
— Беженец, — подтвердил Мойков.
Она вздохнула.
— Мы вечные беженцы, сначала от жизни, потом от смерти, — в глазах у нее вдруг блеснули слезы. — Дайте мне сердечного, Владимир Иванович! Но только совсем немножко. И две таблетки секонала. — Она повела птичьей головкой. — Жизнь необъяснимая вещь. Когда я еще была молоденькой девушкой, в Санкт-Петербурге, врачи махнули на меня рукой. Туберкулез. Безнадежный случай. Они давали мне от силы два-три дня, не больше. А что теперь? Их всех давно уж нет — ни врачей, ни царя, ни красавцев офицеров! И только я все живу, и живу, и живу!