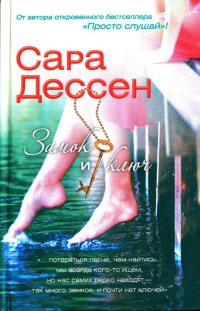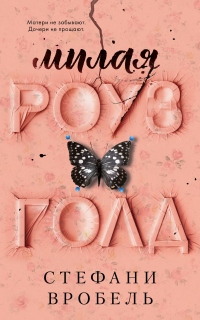Книга Бездомная - Катажина Михаляк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– С тобой? С тобой, сукин сын?! А где ты был, когда она рожала твоего ребенка?! Ты сидел с ней рядом? Держал ее за руку?! Где ты был, когда она сходила с ума? Ты ей хоть номер телефона оставил, чтобы она могла обратиться к тебе за помощью?! Нет! Услышав о ее беременности, ты сразу же свалил – не знаю куда, в Австралию или на Луну, – швырнув ей в лицо деньги на аборт! Так ведь было?! – Прочтя в его глазах подтверждение своих слов, она отпустила его и с отвращением вытерла руки о его рубаху. – Поэтому никогда больше не задавай этого вопроса. Твои руки – по локоть в крови твоей дочки. Ты виноват больше, чем Кинга. Мерзкий гребаный трус, – напоследок бросила она с безграничным презрением, села у стола и расплакалась. Она, крутая Иоанна Решка, ждавшая этого сногсшибательного материала, расплакалась как малое дитя, потому что Кинга… Кинга была последним человеком на Земле, которому Иоанна могла бы пожелать такого горя.
По крайней мере, сейчас.
Кинга, сидевшая рядом, опустившая голову. Кинга со стеклянными глазами.
Кинга, ссутулившаяся, со сломанными ногтями – эти ногти она ломает в лесу каждый месяц, когда ищет свою доченьку. Или хоть что-то оставшееся от нее. Что-то, что можно было бы похоронить…
Между ними повисла тишина.
Эту тишину прервала Кинга, заканчивая свой рассказ.
Моя семья так и не простила. Родные не смогли понять – да и ни один нормальный человек не сумеет, – как это в мозгу обыкновенной счастливой молодой матери может что-то переклинить, переключиться в режим «Внимание, красная тревога!», или «Внимание! Война! Спасать ребенка!», или «Внимание! Пожар! Прыгать с ребенком в окно!» – и… она это делает. Обыкновенная женщина, вполне нормальная еще день или два назад, делает то, что подсказывает ей воспаленный, обезумевший от страха мозг. Ради блага ребенка, ради защиты ребенка она этого ребенка… убивает.
Людям известно о существовании такого явления, как послеродовая депрессия: новоиспеченная мама вместо того, чтобы летать на крыльях любви и излучать счастье, утопает в слезах, не находит в себе сил встать с постели, не хочет заботиться о младенце. Трудно признаться знакомым и соседям, что у дочери или невестки «baby blues – ну, знаешь, это модное нынче расстройство»; но в общественном сознании существование послеродовой депрессии уже закрепилось как факт. Родственники как-то мирятся с посещением психотерапевта, с антидепрессантами, даже с твоим пребыванием в больнице. «Марта/Магда/Малгося уехала в санаторий… нет, малыш остался с нами… у нее была анемия, да, ей нужно набраться сил».
Но никто не отдает себе отчет, что такое послеродовой психоз и как смертельно он опасен и для матери, и для ребенка. Это начинается внезапно, без каких-либо предзнаменований, и развивается молниеносно. Страдающая женщина не способна ни понять это, ни объяснить («Откуда же, Бога ради, этот Калининград?!»), а уж признаться в этом – и подавно («Меня признают сумасшедшей и запрут в психушку, и тогда… что же станет с ребенком?! А ведь у нас красная тревога, война, пожар!!!»).
Я пыталась. Я пыталась рассказать, хотела просить помощи, пока еще в состоянии была мыслить рационально, – но никто мне не верил, никто даже не слушал. Никто не хотел знать о том, что «Алюсю хотят похитить, увезти в Калининград и продать на органы». Вот ты бы поверила? До сегодняшнего дня, пока я не рассказала тебе свою историю, – нет.
Из-за того, что окружающие не осознают опасности, из-за этого нежелания слушать, напоминающего заговор, – знаешь ли ты, сколько женщин каждый год проходит через тот же ад, что и я? Мне поведал об этом доктор Избицкий: около трехсот. А знаешь, сколько из них убивает своего ребенка, или себя, или и себя, и ребенка? Пятнадцать.
Пятнадцать человеческих жизней. Пятнадцать трагедий.
И все из-за того, что в мозгу от материнских гормонов шарики за ролики заходят…
Мои родители сбежали – я даже не знаю куда. Сбежали от общественного осуждения, от клейма родителей детоубийцы.
На двери дома кто-то из соседей написал черным аэрозолем: УБИЙЦА.
И правильно: именно так я себя и ощущаю. Я убила своего ребенка, и нет мне оправдания…
Ася вскинула голову.
– Ты несешь бред, Кинга! Трындишь как конченая! Ты же не ударила Алю головой об пол, потому что она слишком много кричала, и не раздавила ей гортань, обнаружив, что после удара головой о порог она все еще жива! Ты не спрятала ее бездыханный труп в куче кирпичей, покуривая сигаретку, чтобы расслабиться, не отправилась затем в кино на фильм ужасов и не покрасила волосы в розовый цвет в знак траура. Насколько мне известно, в психушке тебя приходилось связывать ремнями и наблюдать за тобой круглосуточно, чтобы ты не покончила с собой. Ты ведь пыталась – восемь раз, да? Да. Ты – в отличие от мамаши двухлетнего Пшемека – не била Алю ногами в живот, пока у нее не разорвется печень; а тот малыш умирал в таких муках, что откусил себе губу… Ты не надела Алюсе на голову целлофановый пакет и не душила долгих пять минут, как та сука, мамаша маленького Гжегожа, которая спрятала труп ребенка в диван, а потом на этом же диване кувыркалась со своими любовниками… Ты не замучила до смерти троих доверенных тебе на воспитание детей и не издевалась над очередным, пока органы опеки не сообразят: ой, наверное, что-то тут не так! Ты не забила своего сыночка молотком за то, что у него не получалось завязать шнурки. Ты не… Черт, Кинга, не сравнивай себя с этими извращенцами!!! У тебя с ними нет ничего общего, понимаешь, ничего!!!
– Да нет, – отозвалась Кинга, – кое-что общее все же есть: дети. Наши дети – и мой ребенок, и их, – мертвы. Нет никакой разницы…
– РАЗНИЦА ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЖАЛЕЕШЬ О ТОМ, ЧТО СОВЕРШИЛА, А ОНИ – О ТОМ, ЧТО ИХ ПОЙМАЛИ!!!
Проорав это, Ася упала на стул, глотая воздух. Больше аргументов у нее не было.
Кинга долго сидела молча – бледная, но спокойная. Впрочем, журналистка знала, что ее слова не убедили Кингу: все равно она чувствует себя виноватой и будет себя обвинять до самой смерти.
Наконец Кинга поднялась, обошла стол, опустилась перед Асей на одно колено, взяла ее дрожащие руки в свои, холодные, точно лед, и попросила:
– Опиши это. Запиши каждое мое слово. Быть может, моя история спасет хоть одну мать и хоть одного ребенка. Пускай смерть Алюси не будет напрасной. Опиши это.
Ася какое-то время силилась проглотить ком в горле и наконец ответила:
– Так и сделаю.
Еще минуту она превозмогала себя, а затем, стыдясь, призналась:
– Я запишу каждое твое слово, потому что я тебя, Кинга, писала на диктофон.
Кинга слегка улыбнулась.
– Я знаю. У тебя из декольте микрофон свисает.
Ася бросила взгляд на собственную грудь: действительно, она так увлеклась историей Кинги, что напрочь забыла о микрофоне. Но Кинга, казалось, вовсе не сердилась.