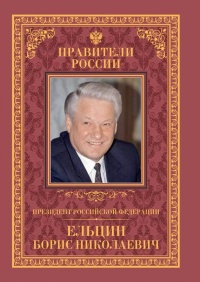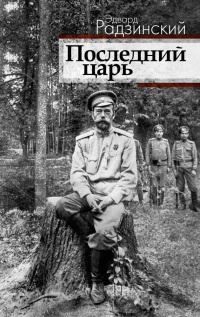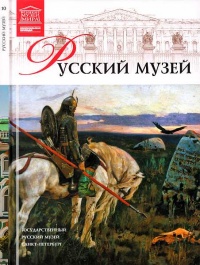Книга Первый день – последний день творенья (сборник) - Анатолий Приставкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И нам до предела было ясно, что завтра не дадут даже наши легковесные порции. Потому что нет в интернате ни кусочка этого самого хлеба. Тогда мы шли на наши огороды, разгребали снег и из промерзлых грядок выковыривали капустные корни, прочные и безвкусные, как веревки. Редкому счастливцу попадалась морковь. И в один из таких дней самый маленький из ребят, Соколик, задумчиво сказал:
– Кончится война, и у нас будет много-много капустных корней…
Шла лютая зима сорок первого года. Однажды Николай Петрович сказал строго, присаживаясь на чьей-то кровати:
– А знаете, ребята, мы после войны все города заново отстроим. Чудесные у нас будут города… И никаких военных следов, как бы сейчас ни глумились захватчики.
И мы поняли, что сдан фашистам родной город Николая Петровича.
Стоял леденящий январь. В темный вечер, когда мы уже ложились спать, в черноту спальни пришел Николай Петрович. Сел и, ни слова не говоря, притих. Квадратными льдинками белели окна, и видно было, как от них шел пар. И вдруг Николай Петрович сказал:
– А после войны вернутся домой наши… У кого отец, у кого сын. И какие бы вести мы ни получали, мы обязательно должны дождаться их…
Казалось, что в спальню вошла еще большая чернота. И все ж мы видели, знали, что сидит Николай Петрович, поджав белые губы, строгий, как у могилы сына. И мы ничем не нарушили этой траурной тишины.
Было так. Во вьюжную сибирскую ночь шел я из больницы к себе в детдом и заблудился. Я проваливался в белый снег, обессилел совсем. Тогда я сел и заплакал. Стало как будто теплей, я заснул. Как меня нашла старая крестьянка, как привела в избу и оттирала, я не помню. Утром она вывела меня на дорогу и показала путь до Зырянки.
– Гонцова моя фамилия, сынок, – сказала она коротко.
Я отошел, помахал ей рукой. Полез в карман и обнаружил там горячую бутылку с молоком.
Через месяц я попытался отыскать добрую женщину, которая меня спасла. Председатель колхоза спросил:
– Из какой деревни?
– Не знаю, но фамилия Гонцова.
– Трудно найти. В нашей Зырянке пятьдесят Гонцовых. В Михневе тридцать четыре семьи да и в Таловке пятнадцать… Это вернее всего в Михневе, там мне такой случай рассказывали. Спроси Марию Гонцову, наверное, она.
Мария Гонцова оказалась совсем не той женщиной, которую я запомнил. Но пока я грелся в теплой избе, она сбегала к соседям и сказала:
– В Таловке она, твоя самая… Варварой зовут. У нее такой случай был. А я нет, никого не спасала.
Она вывела меня на дорогу и показала, как дойти до Та – ловки.
– Ищите Варвару Гонцову. Наверное, она.
Я отошел, оглянулся, женщина все стояла. Я помахал ей рукой. Полез в карман. Та м я нашел кусок теплого хлеба.
Нас было в спальне одиннадцать человек. У каждого из нас был на фронте отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирало. Но черные листки шли в другие спальни. И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну.
Мы узнали, что война окончилась. Это случилось в чистое майское утро, когда к голубому небу прилипали первые клейкие листочки. Кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно. Раздался непривычно громкий смех. И вдруг все мы, одиннадцать человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов.
В детдоме готовился вечер, Витька Козырев разучивал песенку:
Эту песню хотели петь и другие ребята, но Козырев сказал:
– Я отца ждал дольше, чем вы. Он ушел воевать еще с белофиннами…
И мы решили, что, конечно, Витька Козырев немного единоличник, но у него хороший отец и на фотографии очень красиво снят с орденами. Поэтому пускай Витька поет.
Наступил тихий вечер. Заблестели через серую пыльцу звезды, и нам они казались звездами с солдатских пилоток – протяни лишь руку и потрогай пальцами… А что от них свет долго идет, так это вранье просто. Звезды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер. Появилась почтальонша, но мы уже не насторожились при ее приходе. Мы подошли к окну и спросили, кому письмо. Козыреву протянули листок. И вдруг спальня замолчала. Но нам понималось, что кто-то закричал. Было непонятно и страшно.
«Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых седьмого мая сорок пятого года».
Нас было в спальне одиннадцать человек, и десять из нас молчали. Майская прохладная ночь дышала в окно. Светились далекие звезды. И было ясно, что свет от них шел долго.
Все мы, ребята кизлярского детдома, жили без родных много лет и совсем забыли, что такое семейный уют. И вдруг нас привели на станцию, объявили, что железнодорожники – наши шефы и они приглашают нас в гости.
Разобрали нас по одному. Дядя Вася, толстый и веселый начальник, привел меня к себе домой. Жена охала, долго расспрашивала о родных, но в конце концов принесла душистый борщ и сладкую печеную тыкву. А дядя Вася подмигнул и нацедил из бочонка красного вина. И себе и мне. Стало весело. Я расхаживал по комнатам, словно плавал в каком-то счастливом дыму, и мне совсем не хотелось уходить.
В детдоме целую неделю не смолкали разговоры об этом дне. Ребята, переполненные необычными ощущениями «домашней жизни», ни о чем другом не могли говорить. А в школе, с другой стороны крышки парты, где мною были вырезаны три самых заветных слова: электричество – стихи – Лида, я дописал еще одно слово – шефы.
Больше всех хвалился белорус Вилька. Он попал в гости к самому начальнику станции, и тот велел приходить еще. Мне тоже хотелось рассказать хорошее про дядю Васю, и я заявил, что он «самый главный начальник угольного склада» и я могу показать, где он работает. Мне очень хотелось показать дядю Васю, и я повел ребят. Дядя Вася оказался занят. Он хмуро посмотрел на ребят, а мне сказал:
– Не вовремя ты, мальчик… Ты приходи в воскресенье, домой приходи.
Я пришел. И снова ел тыкву и расхаживал по комнатам. И снова тихое счастье не покидало меня. А жена дяди Васи в соседней комнате сказала:
– Странные они, эти дети. Неужели они не понимают, что все время ходить нельзя? Неудобно. Мы же не родственники какие, чтобы их кормить.
А дядя Вася ответил:
– А что я мог поделать! Вопрос о шефстве у нас на общем собрании решался. И вот придумали…
Я тихо-тихо брел по улицам. Чтобы никто не спрашивал, почему я пришел раньше, остаток дня я просидел в пустой школе. Последнее вырезанное слово я расковырял поясом. Его теперь никто не смог прочесть. Только осталась на черной крышке глубокая белая ранка.