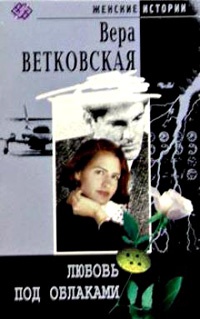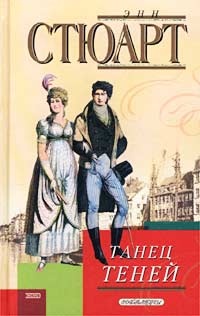Книга Танец семи покрывал - Вера Ветковская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Так что же произошло?..
— Ах, Стася, — с горечью промолвил Чон. — В этом доме завелся один совершенно ужасный человек, который все взял и разрушил своими руками.
— Какой человек?
Чон со всего размаху ударил себя в грудь рукой.
— Я. Вот этими самыми глупыми, подлыми руками все взял и разрушил…
— Почему ты это сделал? — почему-то не удивившись его ответу, спросила Стася.
— Это отдельный разговор. — Чон нахмурился, и Стася явственно ощутила, что он как бы закрылся от нее и что задавать вопросы не стоит.
Возможно, Стася бы не унялась и потребовала, воспользовавшись его откровенностью и хорошим настроением, чтобы он рассказал ей все до конца.
Но она не чувствовала себя вправе это делать.
Ведь у нее тоже имелась тайна, которую она пока не собиралась раскрывать мужу…
Низкое солнце Павла Переверзева
Когда Стасю спрашивали, кого она считает своим учителем, то она безо всякого кокетства отвечала:
— Низкое солнце.
Конечно, рассеянное бормотание Стаси можно было принять за ответ, но он все-таки нуждался в кое-каком пояснении. А вот пояснять Стася ничего не умела и не пыталась. Люди, не обладающие ассоциативным мышлением, казались ей иностранцами, языка которых она не знала, а они не владели ее языком.
Но Павел — не Чон, а Переверзев — понимал ее с полувздоха.
Павел ночевал на веранде, и каждое утро его, как сонное постукивание созревших плодов, будили шаги Стаси.
При низком солнце она обходила свои владения, а они были гораздо обширнее соток, описанных в техническом паспорте домовладения. Наблюдая за ней сквозь неплотно прикрытые ресницы, Переверзев думал, что Стасины владения простираются с земли до неба, с рассвета до заката; с этого света на тот вели крохотные Стасины следы, неуловимые глазу, как пушинки-парашютики майских одуванчиков — они залетали, казалось Паше, в глухонемые космические бездны, спрятанные за колесами созвездий, за мятущимся пламенем комет, оставляя там легкие метки нашей жизни, осторожные силки, по которым человечество, может быть, когда-нибудь сострочит расползающиеся края жизни.
Итак, Стася любила низкое солнце. Павел, наблюдая за ней, всякий раз пытался вспомнить картины, написанные на открытом воздухе при низком солнце… В лучах заходящего солнца Пластов писал «Ужин тракториста». Сумерки там поглощают звонкие краски, лучи заходящего солнца заливают окружающий мир оранжевым светом, а тени становятся холодными, лилово-багряными… У Стаси он не помнит картин, написанных в лучах восхода или заката. «Настурции» у нее написаны против света, льющегося из окна комнаты, непривычное освещение, называемое «контражур», выражающееся в контрасте, когда на светлом фоне окна темные пятна синей воды в хрустальной вазе и на рыжих лепестках цветов видятся почти силуэтами в ореоле света.
Отличная картина. Но вообще она любит писать на открытом воздухе, цвет тогда становится более трепетным, подвижным, обогащается тончайшими холодными оттенками от голубого неба и солнечных лучей.
Переверзев чувствовал Стасино появление в саду, как прикосновение солнечного луча к запыленному углу веранды.
Сад ощущал легкое сотрясение от того, как мгновенно вплетались нити света в шелестящее ночной тайной гнездо тьмы. И темень, как ночная птица, снималась с гнезда, мелкие птахи разносили паутинки света по всему саду. Клевер с бусинкой росы на детской стриженой головке оказывался освещенным насквозь — так и напрашивался на полотно. И сирень встряхивалась, как Терра, — темно-лиловая, серебристо-серая, дымчато-голубая, бледно-сиреневая… Луч касался небритой щеки Павла, — и тут он слышал стук калитки. Это входила в сад Стася.
Да, еще было низкое солнце. Оно посылало почти горизонтальные лучи. Но с каждым Стасиным шагом, с каждым взмахом ресниц угол преломления лучей менялся, рос, — через час он сделается слишком старым для того, чтобы чему-то учить ее… Но пока лучи проходили сад навылет, пока апельсиновый детский пушок еще не отлетел от света, пока еще, если прищуриться, можно было увидеть весь спектр цветов, полную радугу, обвивающую ветви деревьев.
Павел смотрел на то, как смотрела Стася.
Ему казалось, он смотрел ее глазами и ее сердцем: под тем же ракурсом, что и ей, виделась ему вся в росе, как драгоценный царский убор, паутина, освещенная солнцем под еловой ветвью. Смежив веки, он устремлял взгляд на невыносимо яркую клубничину, выглядывающую из своего трилистника, на строгий можжевеловый куст, напоминавший какую-то средневековую готическую фигуру…
Да что только не приходило ему в голову, когда он видел, как русое, распушенное солнцем крыло Стасиных волос касалось ветки яблони, ветки сливы, ветвей кустарника… Один раз она надолго застыла вдалеке у забора, залюбовавшись вдруг ржавым гвоздем, который Павел физически разглядеть не мог, он видел, что это был именно гвоздь, — такое получилось оптическое чудо…
Он понял, почему она так долго стояла у забора — тень гвоздя была похожа на трогательный кувшинчик для молока…
О, как она была понятна ему, эта девушка, каждый волосок в пряди ее волос был ему понятен, как дождь, как утренний туман, как любое явление, трогающее душу художника.
Как хотелось ему временами, чтобы Стася все-таки проявила себя как женщина. Оглянулась бы на него, чтобы убедиться, что он следит за нею, перебросила бы ему через край веранды цветок календулы… Но он знал, что ее женская суть глубже игры и легких касаний кокетства, что Стася черпает свои краски из такой невероятной глубины, на которую не рискуют опускаться мифические тролли, из тех сокровенных запасов женственности, которые пока еще сохраняют эту планету от катастрофы.
Нет, она не кинет на него взгляд, не бросит ему цветок… Их много в саду, и все они принадлежат ей, он может взять себе любой на память о ней, может даже вытащить ржавый гвоздь вместе с тенью, которую он отбрасывает, и выцарапать им на груди грозное Стасино имя и умереть от заражения крови.
Утренний сад весь дрожал от нежности, от корней деревьев до самых птиц на вершинах елей; ему как будто передалась нежность Павла Переверзева.
Вечером при низком солнце они часто гуляли по саду вдвоем.
Лучи солнца ложились на землю под тем же углом, и рисунок облаков был почти утренним, но что-то вечернее сквозило в окраске травы. Трава была очень чутка; под ней спали мертвые. Солнце подмешивало немного грусти в краски цветов. С каждой секундой печаль росла как тень, на стушеванном фоне горизонта как будто слышалось приглушенное филирование скрипок и альтов.
В кувшинчике, подвешенном на ржавом гвозде, уже была не тень, а ночь. Волны синей прохлады слоями сходили с сиреневой высоты, как музыка с крутящегося диска.
— Что ты здесь все высматриваешь? — однажды отважился спросить Стасю Павел.
— Себя, — засмеялась Стася, — кого же еще? Эта груша — я, кусок коры — тоже я… Так создается рисунок. Сперва узнаешь себя в каком-то жесте растения, в шорохе кукурузы, в зыбком очертании тучи, а потом это узнавание незаметно переходит в руку… Так Анна Павлова, должно быть, смотрела на лебедей, напевая про себя «Карнавал животных»… В саду столько всего, что он кажется больше всей нашей планеты!..