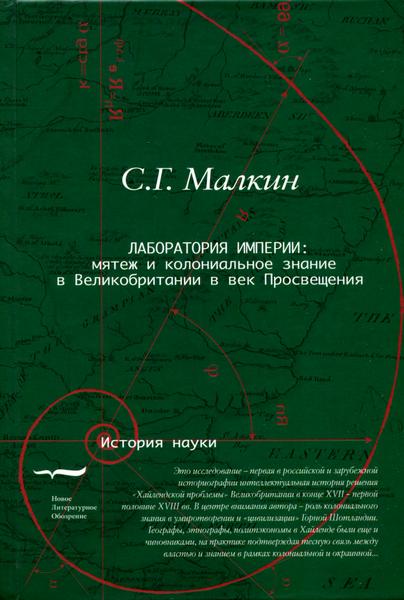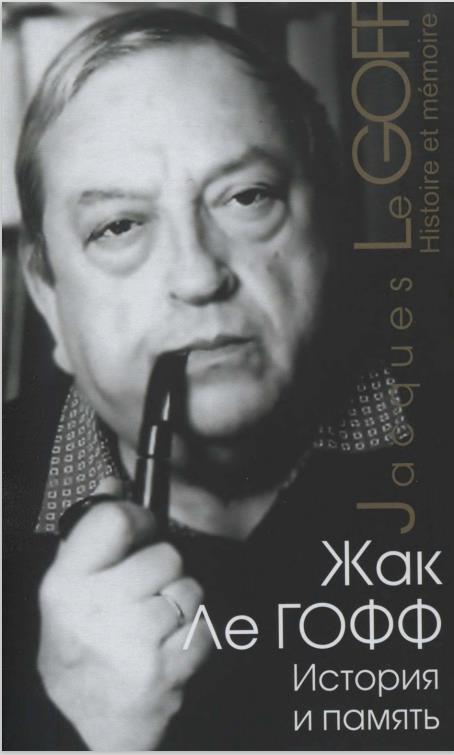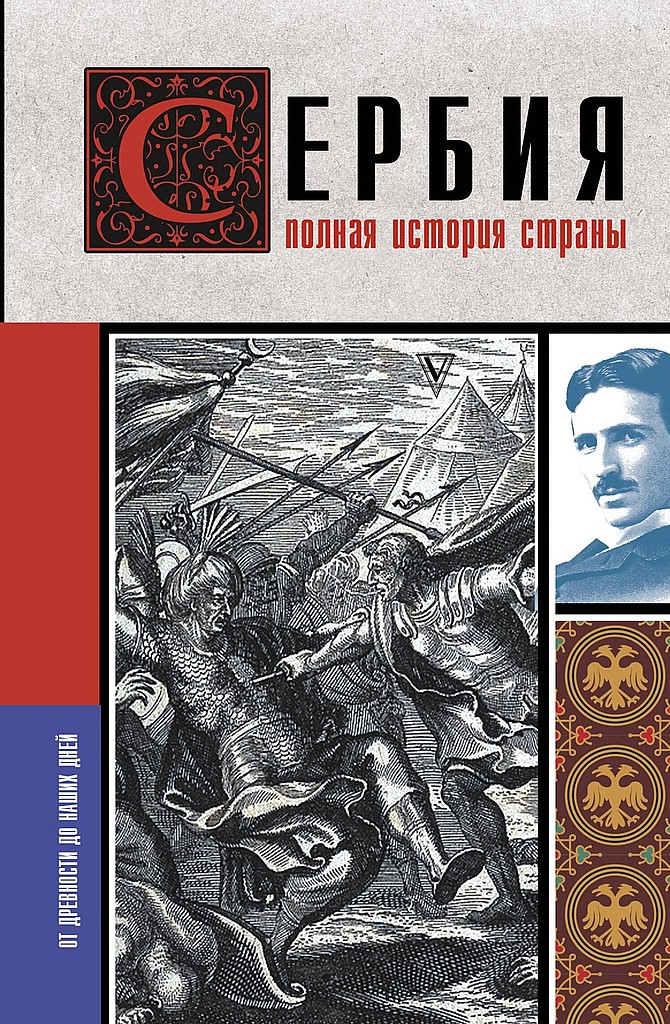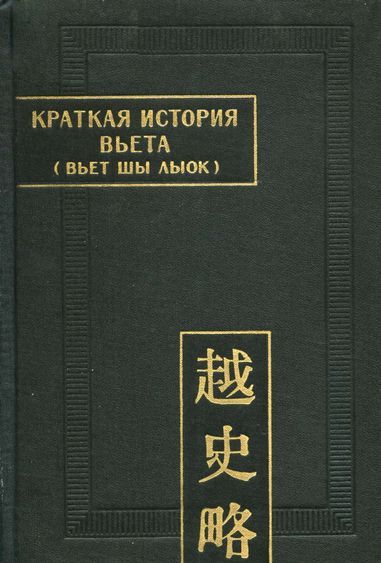Книга Что такое интеллектуальная история? - Ричард Уотмор
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С точки зрения релятивистов, говорящих о неуловимой многозначности текстов, в устроенном таким образом мире на самом деле и вполне однозначно существуют отношения господства, неравенства и торговли, происходят столкновения групп, соперничающих за право определять норму[210]. Провозглашаемая призрачность реальности и письма, в которой текст остается без референта, а реальность дана лишь как текст, на наш вкус, слишком быстро уступает место безусловному утверждению идеологической борьбы в обществе разных и неравных. Очевидно, что для постмодернистских авторов общественная риторическая борьба и лежащий под ней поздний капитализм – это рабочая модель социальной реальности, разделяющаяся и полагающаяся большинством мыслителей, о которых мы упомянули выше. Однако сама эта модель претендует на статус адекватной интерпретации социальной реальности.
Как мы помним, Т. Кун считал конкурирующие за признание и ресурсы сообщества ученых, разделяющих общую парадигму, вполне адекватной интерпретацией социальной реальности, однако делать из этого вывод, что любые интерпретации «свободно парят» без связи с действительностью и являются лишь «инструментами господства», – это проявление поспешного «заглатывания» аргументов без их усвоения. Усваивая эти аргументы, можно признать, что язык служит, с одной стороны, средством социальной борьбы и кооперации, а с другой – ограниченным, но адекватным инструментом познания.
На достаточно высоком уровне абстракции Кембриджская школа (или, скажем, итальянская микроистория) близка постмодернистам в критике позитивизма или наивного платонизма в истории идей. Другим общим прозаическим фундаментом для реалистов и части постмодернистов (впрочем, не осознающих, что говорят прозой) служит понимание того, что риторические стратегии и тексты, по сути, и являются важнейшим слоем социальной реальности. При этом теоретики-релятивисты по факту считают, что тексты отражают иную действительность (политико-экономическую), а реалисты как раз подчеркивают автономию культурного поля.
Ошибка радикальных постмодернистов заключается в том, что они используют открытие языка как инструмента социального действия и господства в качестве аргумента против возможности объективного научного поиска и изучения самой языковой реальности. Однако на деле они разделяют веру в адекватность особой модели общественных отношений как полемики или идеологической борьбы языковыми средствами. Более того, допускаемое многими ведущими постмодернистами отождествление позднего капитализма (как мира массовых и коммерциализированных коммуникаций) с релятивизмом и постмодернистским отказом от установки на «реальность» и истину само содержит очень сильное утверждение. Для людей, считающих любые устойчивые значения текстов и событий прошлого иллюзорными, уверенность в господстве капитализма должна казаться избыточно реалистичной. Откуда известно, что бесконечную сложность призрачных общественных явлений и текстов можно адекватно описать как поздний капитализм?
Кажется, постмодернистам следует более систематически осмыслить обе части своих убеждений. Представления о «чистом», незаинтересованном поиске истины, о полной нейтральности научного или экспертного знания были убедительно опровергнуты в ходе интенсивной полемики ХХ в. Более оправданный реалистический вывод из вышеописанного набора релятивистских аргументов в применении к интеллектуальной истории состоит в выборе языка или дискурса как специфического предмета изучения, который нужно изучать в его собственной логике – полемического обмена высказываниями в соревновании за признание, нормы, конкретные решения и общую картину мира.
Резюмируем наши тезисы в пользу языкового реализма. Во-первых, интеллектуальная деятельность вплетена в ткань социальных отношений и, безусловно, оказывается инструментом борьбы, кооперации и в широком смысле полем социального действия par excellence. В этом качестве полемические высказывания (а любые высказывания и тексты суть часть общественной дискуссии) составляют самостоятельный порядок, который не сводится без остатка к игре каких-то иных факторов. Во-вторых, сами «идеи» не представляются ни адекватным отражением реальности, ни выражением «сущностей», лежащих за пределами физического или социального мира. Историк не способен установить сущность идеи «нации» или «государства», хотя многие современные исследователи в России и в мире, вероятно, все еще мыслят внутри этой парадигмы. Вместо обращения к абстрактным «идеям» историку скорее следует интерпретировать «высказывания» в их специфическом языковом и социальном контексте, что на практике указывает на необходимость реконструкции локально заданного репертуара смыслов и значений, на важность конкретных заимствований и аллюзий (не случайно филология и интеллектуальная история имеют много общего). Релятивистская критика языка и историографии дает методологический инструмент историку-реалисту. Наконец, в-третьих, историки по умолчанию мыслят свою науку, находясь внутри предзаданной культурной ситуацией воображаемой структуры времени (прогрессистской, апокалиптической, контингентной и др.), которую полезно осознавать[211].
Стратегия языкового «реализма» позволяет конструировать более или менее убедительные модели описания, с помощью которых можно воссоздавать значения сделанных ранее высказываний в исходном историко-социальном контексте, равно как и изучать позднейшую рецепцию этих высказываний в конкретный исторический период. Тексты принципиально открыты множественности истолкований в будущем, однако потенциальная открытость новым интерпретациям не означает, что у текста не было оригинального и более узкого контекста. Вернемся к тезису К. Гирца о подмигивании в ответ на подмигивание, который кажется почти неотличимым от «призраков призрака» Деррида или от утверждений Р. Барта. В отличие от постмодернистов, подчеркивающих творческий и игровой характер своих трактовок, Гирц ближе «реалистической» линии. Он по умолчанию исходил из того, что его анализ курьезных случаев взаимодействия людей разных культур в Марокко или петушиных боев на Бали адекватен сложному устройству самого предмета исследования. Указывая на важность воображения и fictio для антрополога, стремящегося освоить и разъяснить «символические действия» людей иных культур, он настаивал на научности и правдоподобии собственных гипотез[212]. Рорти, который считал себя релятивистом, ратовал за контекстно ориентированную историю философии как наилучшую стратегию изучения истории мысли[213]. Следовательно, «реальность» мысли (точнее, высказываний) подлежит методической реконструкции.
Аргумент 2: историзм и/или «фиктивность настоящего»?
Значимым этапом в теории историографии последних двадцати лет стало большое внимание к тому, как мы сегодня представляем структуру или режимы исторического времени. Речь идет о так называемом темпоральном повороте в гуманитарных науках[214]. Историк, погруженный в общественный контекст, стремится определить исходную точку, из которой он смотрит на прошлое и намечает границу между прошедшим и настоящим. В знаменитой реплике Л. Хант, тогда президента Американской ассоциации историков, презентизм предстает как двойная опасность для историографии – он скрывает имплицитное и незаслуженное чувство морального превосходства над прошлым и мешает понять инаковость прошлого в его собственных терминах[215]. Классическая работа Ф. Артога о презентизме, вышедшая в 2003 г., во многом резюмировала накопленный опыт и задала новую понятийную сетку для последующей дискуссии[216]. Книга Артога демонстрирует, что речь идет, возможно, не просто об опасности для историографии, но о совершенно новом интеллектуальном вызове. Обсуждение вопроса о времени стимулировало появление аргументов в пользу признания «множественной темпоральности»[217]. В свою очередь, неотрефлексированная ранее фикция единства «настоящего» стала объектом продуктивной критики[218].
В рамках каждой культурной общности в данный момент времени мы обнаруживаем сосуществование нескольких пластов или слоев темпоральности, то есть качественно различных суждений о характере настоящего момента и об общей логике исторического процесса. Скажем, в начале XXI в. С. Пинкер предлагает аргументы в пользу прогрессистской модели истории, Артог фиксирует гегемонию презентизма, сохраняют свое влияние циклические нарративы, а ряд современных российских и западных философов в диапазоне от А. Бадью до А. Дугина актуализируют апокалиптические ожидания. На уровне массовой культуры феномен исторической памяти общественных групп, многие из которых осознают себя через верность знаковым событиям прошлого, создают многоцветье «широкого настоящего времени»[219]. В целом мы разделяем критические аргументы презентистской реконструкции настоящего, но хотим оспорить ее методологические импликации.
Признание наслоения разных представлений о времени влияет на историцистскую установку исследователей и ставит вопрос: можно ли проводить символическую границу между прошлым и настоящим, если первое столь неоднородно? В недавнем номере журнала «Логос» опубликован репрезентативный блок материалов о «темпоральном повороте», в котором современные теоретики истории развивают тему множественности настоящего. В обстоятельной и фундированной статье один из крупнейших специалистов по темпоральности Б. Бевернаж заявляет, что следствием структурного расщепления современности выступает невозможность провести грань между прошлым и настоящим, поскольку нельзя утверждать инаковость или «прошедшесть» прошлого без исчерпывающего исследования многослойной современности[220]. Опираясь на критику настоящего со стороны П. Осборна, Бевернаж пишет о перформативном характере границы между современностью и прошлым:
Называя современное фикцией, Осборн не хочет сказать, что оно не имеет