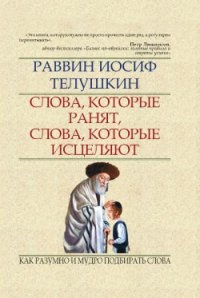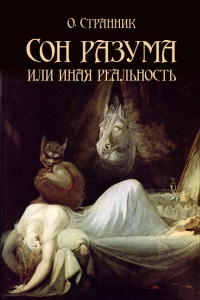Книга Слова, которые исцеляют - Мари Кардиналь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И моя мать знала, где я и что со мной. Знала, потому что у нее было медицинское образование. Но любое мое шевеление говорило ей только об одном: ей еще не удалось убить меня. Ох уж этот зародыш, который так мешал ей! Беременность длится долго – месяцы, недели, дни, часы, минуты, и у тебя достаточно времени, чтобы узнать кроху, которая живет в тебе и которая совсем иная, чем ты. Существует ли бо́льшая близость? Или бо́льшее слияние? Но каждое мое движение – напоминало ли оно ей об омерзительном спаривании, из которого возникла я? О ненавистной страсти? Об отвращении?
Она садилась на ржавый велосипед и неслась по пустырям, по мусорным свалкам! Надеюсь, что дело пойдет – там, внутри, моя маленькая рыбка, сейчас ты увидишь, как я сломаю тебе хребет! Выкатывайся! Пошла вон!
Она ездила верхом на своей кляче! Гоп! Ну что, ты чувствуешь мощные удары в своем гадком тельце? А, дорогуша? Так поднимается страшная буря, которая разбивает маленькие подводные лодки! Нет! Так возникают водовороты, чтобы утопить маленьких водолазов! А? Уходи же, сволочь, пошла вон!
Ах, ты все еще шевелишься? На вот, прими это и успокойся! Хинин, аспирин! Ласково, нежно, сладко: баюшки-баю, дитятко, давай, я тебя покачаю, пей, моя красавица, пей чудесный отравленный эликсир. Посмотрим, как ты повеселишься, съезжая с горки в моем заду, когда сгниешь от вредных лекарств, когда сдохнешь, как крыса в водосточной канаве. Смерть! Смерть!
В конце концов обессилевшая, покорившаяся, побежденная, разочарованная, она позволила мне выскользнуть живой в эту жизнь, как позволяют выскользнуть экскрементам. Что могло произойти в будущем с девочкой-экскрементом, тихонько движущейся лицом вперед к свету, который она видела там, в конце узкой мокрой трубы, в конце тоннеля, – движущейся в этот внешний мир, который был так суров к ней? Скажи, мама, ты знала, что толкаешь ее в сумасшествие? Ты догадывалась?
То, что я назвала низостью матери, было не ее желание, чтобы произошел выкидыш (существуют моменты, когда женщина не в состоянии иметь ребенка, не в состоянии любить его в должной мере), наоборот, низость состояла в том, что она не пошла до конца в своем глубоком желании, что не спровоцировала выкидыш тогда, когда это было нужно; а еще – в том, что упорствовала в своей ненависти ко мне, в то время как я уже начала шевелиться в ней, наконец, в том, что она рассказала мне о своем жалком преступлении, о своих несчастных попытках убить меня. Как будто, потерпев неудачу, она теперь – четырнадцать лет спустя – повторяла попытку, но уже в безопасности, больше не рискуя собственной жизнью.
Все же благодаря низости матери намного позже, на кушетке в глухом переулке, мне было гораздо легче проанализировать тягостность всей моей прежней жизни, то постоянное беспокойство, тот непрерывный страх, то отвращение к себе, которые, в конце концов, развились в помешательство. Без признания матери я никогда, может быть, не сумела бы вернуться к тому времени, когда я находилась в ее животе, вернуться к тому отравленному плоду, на которого велась облава и к которому я бессознательно возвращалась, когда скрючивалась между биде и ванной во мраке ванной комнаты.
Теперь я больше не считаю «низость матери» низостью. И это важный и неожиданный поворот в моей жизни. Я знаю, почему эта женщина так поступила. Я понимаю ее.
«Труба, о чем она вам напоминает?»
Я давно имела представление о том, что такое психоанализ. В течение уже долгого времени трижды в неделю я приходила для того, чтобы оставлять тяжелые мешки своей жизни у маленького доктора. Его кабинет был битком набит ими. Я ложилась на кушетку между ними и говорила. Я все время проверяла, внимателен ли доктор, не говорю ли я впустую. Как он себя ведет? Делает ли заметки? Записывает ли на магнитофон мои монологи? Я подробно изучала тишину, стараясь обнаружить малейший стук пишущей машинки, щелчок, шелест магнитофонной ленты. Ничего. В разгар моего разглагольствования мне часто случалось внезапно повернуть голову в его сторону – я думала, что поймаю его на том, что он записывает. Он сидел, равнодушный, неподвижный, опираясь на подлокотники кресла, нога на ногу. Он не писал, он слушал. Я бы не потерпела, чтобы между ним и мной существовал хоть какой-то документ, бумага, карандаш. Ему, как и мне, был известен груз накопленных мной воспоминаний, фантазмов. Между нами был только мой голос, ничего другого. Я не лгала ему, а когда все же пыталась скрыть какую-то ситуацию, приукрасить ее, подсластить (например, сказать, что, когда мать молола вздор, мы были в гостиной на ферме, вместо того чтобы сказать, что мы шли по улице), в конце концов я всегда снимала маску и говорила чистую правду. Я и сама – без того, чтобы мне на это указывали, – прекрасно понимала, что скрывала определенные образы, так как бессознательно боялась, что в случае, если я вынесу их наружу, мне станет еще хуже. Хотя, наоборот, именно давая этим ранам волю, основательно их очищая, я бы эту боль прогнала.
До того дня, когда я, набравшись храбрости, заговорила наконец о галлюцинации, а он, когда я закончила, спросил меня: «Труба, о чем она вам напоминает?», – до этого дня я по-настоящему не вторгалась в бессознательное. Я забрела туда случайно, не зная, что я там оказалась. Я говорила только о событиях, которые помнила, которые знала наизусть, одни из них душили меня, потому что я никому о них не рассказывала: бумажный кран, операции куклам, мерзкий поступок матери. Пересматривая их с целью полного, грубого, жестокого анализа, я в конце концов стала обнаруживать связь между ними. Я констатировала, что в каждом случае, с одной стороны, я потела, с другой стороны, если я казалась немой и оцепеневшей, внутри меня, наоборот, вырастало сильнейшее волнение, вытекающее из обилия одновременно устремлений вперед и отступлений, – волнение, которого я не понимала, которым я не владела и которое повергало меня в трепет. Нечто было там, на своем месте.
Нечто было там еще с раннего детства, я была в этом уверена. Оно появлялось каждый раз, когда я кому-то не нравилась или когда мне казалось, что я не нравлюсь матери. Отсюда и вывод, сделанный сейчас, в глухом переулке, что запрещенные матерью удовольствия вызывали внутреннее Нечто. Оставался только один шаг, который я теперь легко сделала. Я отдавала себе отчет, что и в мои тридцать с лишним лет я страшно боялась не понравиться матери. В то же время я понимала, что и неслыханный удар, полученный от нее, когда она поведала мне о неудачном аборте, оставил во мне глубокое отвращение к самой себе: меня невозможно было любить, я не могла нравиться, я могла быть лишь отвергнутой. Итак, все уходы, все разрывы, все разлуки я переживала как отказ от меня. Простое опоздание на метро тоже будоражило внутреннее Нечто. Я была неудачницей и, следовательно, терпела поражение во всем.
Все было просто и ясно. Почему я сама не пришла к этим выводам? Почему я не использовала их каждый раз, когда чувствовала беспокойство? Потому что до сих пор я ни с кем об этом не говорила. Любой страх я переживала в одиночку и всегда загоняла без всяких попыток объяснить его как можно глубже. Когда я достигла возраста, когда смогла бы рассуждать о принципах матери (принципах класса, к которому я принадлежала) и определять их как плохие, абсурдные и по большей части лицемерные, было уже слишком поздно, произошло окончательное промывание мозгов, семена были зарыты глубоко, без всякой возможности выбраться наружу. Я никогда не видела перед собой сигнала «запрещено» или «отказано», которые можно было бы уничтожить простым пожатием плеч. Когда я входила в их зону, я, наоборот, встречалась с ужасной сворой, которая преследовала меня, крича «виновная», «плохая», «помешанная»; давнее Нечто, притаившись в самом темном углу разума, пользовалось царившим во мне хаосом, моим сумасшедшим бегом, хватало за горло, и разражался кризис. Когда я пыталась что-либо понять, то не достигала никакого результата, ибо я стерла слова «запрещено матерью», «покинута матерью» и вместо них написала «виноватая», «сумасшедшая». Я была сумасшедшей, это было единственное объяснение, которое я могла дать.