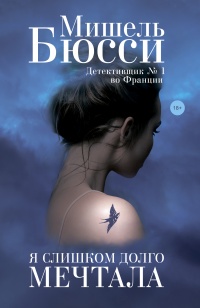Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Константин за всё лето не прикоснулся ни к одной ягодке – после того, как однажды переел их. Может, он живёт честнее нас всех, в своей поздне-модернистской мета-реальности, метафорически непостижимой для нас, невежд. Его порции перепадали мне.
Веснушки вишням родня. Мои никогда не были такими круглыми и частыми, как у моего брата, который тайком загорает через сито, как говорила мама. Через дуршлаг. Про-бой по-немецки. Я чувствовала, что не могу ей поверить. Это сито с ручкой использовала только она, на кухне, и если бы оно попало в руки ему, он бы замахивался им на меня, когда я не могла повторить английские слова, например. Но, может быть, я путала дуршлаг и фартук. (Vor-tuch, передник). Меня пробивало, что это не типичные русские слова, но с другой стороны: русский язык плещется многоструйно, впитывая французские, английские, немецкие, голландские, а прежде ещё арабские, а то и вовсе китайские заимствования и просеивая их через граммолексическое сито. Не он ли теперь просеивается через дуршлаг на кожу других языков?
Мы спим и видим сон. А мой сын – мальчик моих сновидений, он вырывает меня из сна и настаивает на том, чтобы заснуть рядом со мной, и он дарит нам обоим сны наяву. Мы смотрим мультик про Карлсона, с ожиданием смотрим в окно и загоняем какао со шведскими бёллерами в ленивые рудники наших утроб. Мы просыпаем школу, университет, договорённости о встречах. Мы беззастенчиво напяливаем на себя спальные колпаки и выкрикиваем шумные лозунги в монастыре, храме русскоши.
Взять на заметку ещё одну неотъемлемую составную часть летней жизни, на другом фотоснимке она подходит к моей вишнёвой кипе: хлопчатное узорчатое платье на каждый день. Юбка из трёх широких присборенных полос. Сейчас такие были бы супер-крутыми и мега-модерновыми. Рисунок – бабочки в цветовой гамме от разнообразных до извращённых красок, неистощимо-калейдоскопический узор. Плательная почта из давних 70-х годов. Лиловое, красное, ещё какое-то, уже безымянное, поскольку солнце высветлило краски. У этого платья было одно свойство – становиться короче и быть при этом впору. Из года в год я замеряла его длину по трём родинкам на бедре: поначалу оно было очень благонравное, чуть выше колена – и до той точки, когда для безнравственности уже не требовалось никакого порыва ветра. В братниных шортах это не было темой. Они прилегали своей жёлтой бархатистой тканью и требовали максимального укорочения – как и сейчас в тренде, – чтобы в них не парились бегущие ноги. А к ним бело-жёлтый верх, мой первый костюм из того космоса. Я походила в нём на цыплёнка, отметили родители и братья. Желток, прозвал меня Константин. Нет, цыплёнок, сказала мать, ведь самая маленькая под забором. И самая горластая, возразил он. Ну пусть будет Желток, согласилась с ним мать, раз уж яйцо учит курицу.
Когда подкатывает волна воли писать о закрытом (заключённом, прежде всего, в сердце) городе, всплывающие слова напоминают мне одесские блатные песни. Как только переведёшь их текст на немецкий, на листе бумаги (Blatt) они кажутся банальными до недоумения. В переводах скрыты истории весёлых самопотерь. Оборвём листки помарок – что останется в сердцевине? Момент созвучия с тем и другим, момент «да, это прекрасно» – и разве это не так, честное слово?
Люди, приезжавшие на лето в Севастополь, снова уезжают, а мы – мы стоим на якоре. Расширить радиус известной мне местности, начиная от нашего дома – это поэма. Но ехать к моей бабушке в Северную бухту, больше получаса на троллейбусе, четверть часа на катере и ещё 20 минут пешком по крутой песчаной дороге вверх – это конец света. Едва одолеешь дорогу к её дому с «квартирантами» (отпускниками, которые снимали на её участке времянку), как тут же начинается пропалывание грядок, окучивание картошки, ремонт ограды. Все были чем-то заняты, папа всегда что-то чинил, мама чистила, чаще всего время не двигалось с места.
Использовался каждый квадратный метр. И земли, и жилой площади. Эти ужасные москвичи с их протяжным аканьем. Правда, они привозили с собой еду. Колбасой рассчитывались за постой. Но лучше б я часами бегала голодная по моим дворам, только б не за преградой огорода. Всё это не переводится на язык слов, это в лучшем случае перформирует и парфюмирует современность – подобно неожиданному букету цветов без всякого повода. «Подъезд номер 7» – гласит названье эксклюзивного панельного парфюма. Если он кончается, я пополняю его – подобно флакончику с мыльными пузырями – так что дети из чужих дворов нас добро пожаловали и пускали беситься с ними.
Некоторым блюдам место в поваренной книге, а некоторым путешествиям – в вахтенном журнале. Часть мигрантов в больших городах говорит прошлому: давай-ка, bye, bye. Ставь точку и не тяни резину. Этот фильм не получится снять, ты можешь сослаться на Когда я стану великаном, и половина зала тихо встанет, расставаясь с этим инсайдером после рекламы. Слишком разные у нас коды и слишком разномастные, чтобы подшить их в один регистратор с надписью «русское», или «советское», или «украинское» и так далее. Но без этикетки ничего не складывается! Кричи не кричи, время вспять не повернёшь, твоё сознание всё реже поддаётся сдвигу, ты всё меньше крутишься вокруг себя, и этот малюсенький, мелочный мир, давно подорожавший вдесятеро и снова обесценившийся от падения рубля, расстроился и перестроился, населился другими людьми, стал средним, а то и вовсе иноязычным, с легендой о твоей семье, а то и без следа, без бабушки, без деда. Тебе теперь до феньки, до колбасы, будь то московская охотничья для салата оливы или острая карри от расстройства и для запора. Ешь, дитя, крепчая, бывай и забывай.
На языке забвения читаю вслух: в гостях у бабушки я впервые услышала внутренний зов домой, и это определило, что такое «домой». А ведь у неё были и интересные вещи, например, будка с душем в углу огородика и будка туалета с выгребной ямой в другом углу. Чёрная и красная смородина. Малина. Картошка, при окучивании которой в земле поблёскивали патронные гильзы. Мать прожужжала мне уши своей поговоркой: здесь каждый метр земли пропитан кровью. Мы стоим на костях наших храбрых матросов. Под райским солнцем, под парадную музыку, под слоем майонеза холодного салата шуба.
Один раз на меня надели китайское платье, в котором я должна была позировать для семейного фото, ещё перед тем, как отправиться к бабушке. Мы с отцом вдвоём уехали вперёд, остальные должны были подтянуться после обеда. Мы были одни на бабушкином участке. Отец проводил своё время со мной – красный день в моём календаре. Квартиранты предавались на пляже радостям отпускников. Отец для них недавно обустроил на участке три времянки. Теперь они стояли для нас открытыми. Отец чинил дверь, она была раскрыта настежь, я заглянула, как приезжие живут у нашей вишни и у сарая с инструментами. Сделав обход и съев персик, я перешагнула у душа через грядку с петрушкой и укропом на уровень ниже. Участок располагался, как и всё здесь, на склоне, такая уж местность. Два входа в дом, грядки вплотную одна к другой, астральные звёзды ярких астр, мягкая земля, бдительные соседи и глубоко в животе ожидание, что кто-нибудь внезапно вернётся.
В домиках отпускников подушки, поставленные на кровати треугольником, сам их вид располагал к дневному сну. А потом я увидела машинку. Настоящий детский автомобиль, в который можно было сесть, давить на педали – и он ехал! Я прыгнула в него, в полном сознании преступления запрета. Моя бабушка обзавелась этим кабриолетом для детей отпускников и спрятала его от меня, чтобы я не сломала. Может, моё предположение было ошибочно, тем не менее я, забравшись в педальное авто, полдня не вылезала из него.