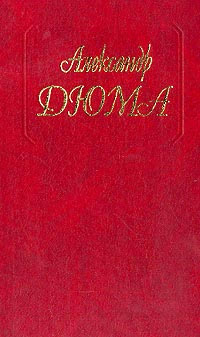Книга Родовая земля - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Семёну отчего-то стало казаться, что нет на свете ни паровоза с вагонами, ни самой железной дороги, ни Ангары с её широкими чистыми водами, ни гористых лесных цепей, подступающих к правому берегу, ни Погожего с его церковью, избами, огородами, ни односельчан и даже его самого, Семёна, нет как нет, — ничего нет в этом тёмном и холодном мире. А есть единственно какая-то разлитая по всему свету общая душа, которую пригреет солнце — радуется она, подуют холодные, колкие ветры — сожмётся. Ему представились полегчавшими его постоянные после свадьбы страхи и опасения, что семья его всё же не сложится. Ему показались не очень-то нужными его ежедневные хлопоты, поездки по делам. Одиночество и тоска заледенили его душу. Он не видел ясного пути в жизни.
Вернулся в спальню, взобрался на перину, привлёк к своему твёрдому боку мягкое, шелковистое плечо жены. Погладил по волосам, вдыхая их нежный, казавшийся молочным парным запах.
— Я ломаю тебе жизнь, Семён, — сказала Елена, приподнимая на мужа строгое лицо. — Без меня ты был бы счастливым… Неужели, в самом деле можно так сильно любить?
Он перевалился от неё на другой бок, затих. Елена сама склонила к плечу Семёна с раскиданными, пышными волосами голову, и он от неожиданности вздрогнул — она коснулась мужа, и это прикосновение походило на ласку, нежный ответ.
— У-ух, ледяной, — улыбнулась она, но не отняла своей жаркой головы.
— А ты как печка горячая, — произнёс он срывающимся голосом.
Он повернулся к Елене, и она переместила свою голову с его плеча на грудь. И это тоже было впервые в их совместной жизни — её голова покорно лежала на его груди, затаившейся, словно он боялся вспугнуть какую-то до крайности осторожную и весьма ценную птицу, нечаянно запорхнувшую на его грудь.
— Знаешь… знаешь, Семён. — Она неуверенно замолчала, но всё же сказала: — Знаешь, я хочу любить — крепко-крепко. Чтоб на всю жизнь. До гробовой доски.
— Пошто же сердце твоё молчит?
— Оно не молчит, — неожиданно улыбнулась Елена, отбрасываясь на пуховую подушку. Её волосы упали и на грудь, и на лицо Семёна, пощекотывая. Стала говорить певуче, раздумчиво: — Оно ведь у меня живо-о-о-е. Оно ждё-о-от.
Но она чего-то как будто испугалась. Призакрыла глаза, чтобы, быть может, не видеть лица мужа.
— Ждё-о-от? — тоже отчего-то певуче произнёс Семён, захваченный её такой по-детски простой, но непривычной игрой. — Чего? А может, кого? — Странной получилась улыбка, — словно поморщился. Елена молчала, натягивала на себя одеяло, притворяясь, что хочет спать. — Может, тебе уже… кто… люб, Лена?
— Нет, нет. Давай-ка вот что — спать.
На окне, наконец-то, угомонилась муха. За стенкой уже спали старики, и слышался храп с посвистом Ивана Александровича. Пахло сохшим на русской печке нарезанным хлебом, кисло-сладко натягивало квасом из бочонка. В конюховке заржала лошадь, и ей немедленно ответила собака завывающим лаем. Но вскоре снова наступила глухая потёмочная тишина.
* * *
В начале июля Елена поняла, что беременна, и мысль о том, что придётся рожать от нелюбимого, угнетала и злила её. «Вытравлю!» — однажды подумала она, ощущая приступ кружения в голове и тошноты. Но эта мысль испугала Елену, колко похолодила душу.
На Покров, после службы в церкви и многолюдного крестного хода под взывающий звон колокола, в просторном доме Михаила Григорьевича собрались родственники, кто мог. Разухабисто играла гармонь в клешнятых руках цыгановатого, всем подмигивающего Игната Черемных, плясали во дворе и в горницах.
На улице, уже в потёмках, судачили дряхлые старики возле своих ворот, сидя на скамейках в овчинных душегрейках, а кое-кто уже надел и валенки, хотя снега ещё не было.
— Ох, грехов накопилось, братцы! Ужель невзгоду ожидать оттоле, из Расеи?
— Откель ишо-то? От мунгалов али хунхузов каких? Тольки из Расеи-баламутки и жди всяких разных напастев.
— Не хули Россию: она ишо и тебе, и твоим детям да внукам сгодится. Её сожги огнём лютым, а она всё восстанет из пепла, вспоит и вскормит своих неразумных детей да и другим пособит, ежели чего…
У Охотниковых было принято, что все, кто целый год работал на них и вместе с ними, на благополучие их дома, на их семью и род, должны быть отблагодарены так хорошо, чтобы — не дай Бог! — никаких обид не было. Денег и припасов не жалели. Столы были заставлены закусками, четвертями, четушками с аракой, кувшинами с домашним — Любови Евстафьевны приготовления — пивом и Пахомовой медовухой. Кому что нравилось, то и пил вволю.
Михаил Григорьевич захмелел, раскраснелся; он был в праздничной красной рубахе, сам на себя не похожий, часто вставал, размахивал руками, пританцовывая:
— Плохо вам, люди, у меня живётся? — притворным строгим взглядом окидывал он застолье. — Недовольны хозяином? Смотрите мне!
— Что ты, Григорич!
— Премного благодарны, Михайла!
— Ты — хозяин-кремень…
Михаил Григорьевич куражливо-обиженно отворачивал лицо:
— Во-о-о! А чего же всякие Алёхины и другая шалупень плетёт про меня, что я-де мироед и шкуродёр?
Непьющая, стыдливо краснеющая и вся сегодня бдительная Полина Марковна, одетая по-будничному, дёргала супруга за рубаху или поясок, усаживала на лавку, шептала, озираясь:
— Сядь ты, птица-говорун! Расчирикался! Не смеши людей. Утром как будешь в глаза народу смотреть? Да кому сказала — замолчи!
— Цыц! — протестовал Охотников, игриво вырываясь из рук требовательной супруги. — Пущай люди скажут: мироед и шкуродёр я али кто?
— Али кто! Тьфу! — досадливо махнула рукой Полина Марковна, отворачиваясь от несговорчивого, упрямого мужа. — Стыдобища-то какая! Ленча, хоть ты устыди отца.
Но Елена отмолчалась. Дочери с того памятного поворотного майского дня было тяжело посмотреть в глаза отца, не то что обратиться к нему. Она была сегодня вся тихая, молчаливая, какая-то закрытая. Душу Елены грызли мысли о её беременности. О ребёнке, которого носила под сердцем, ещё никому не сказала, словно ожидала какой-то необыкновенной, но и неминучей перемены в своей жизни.
Снова со всех сторон урезонивали и успокаивали перебравшего — или притворявшегося таковым! — хозяина:
— Да цены тебе, Михайла, нетути!
— А ну-ка, Федька, налей по полной чарке всем: выпьем за здравие и всяческое благополучие Михайлы Григорича и его домочадцев!
— Мыхайла, ты — во мужик! Дай — поцалую тебя, чё ль!
— Я первая, я первая!
— Ну, всё — пропал мужик: вусмерть заласкают!
Хозяин, покачиваясь, прищуривался, мотал растрёпанной головой:
— Лукавите! — Но улыбка наивного самодовольства расползалась по его красному потному лицу. — Ой, лукавцы! Урежу вам оплату — сей миг, поди, благим матом заорёте: мироед, шкуродёр! А? Э, братцы: меня не проведёшь на мякине. Ну, наливайте по полной: за ваше здравие хочет хозяин выпить!