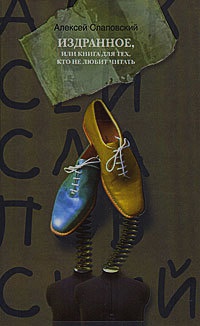Книга Апсихе - Эльжбета Латенайте
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не тайна, что для богобоязненных велика опасность нечаянно от той большой любви запрезирать зло. Не ценить, не любить зло. Демоны или сам черт не могут быть рабами Бога, потому что он, если считать его абсолютом любви, не может любить их меньше, чем он любит ему будто бы послушных. Он не может не любить зло, его любовь не делит объекты на более и менее любимые. И не остается места для гнева. Только для человеческого гнева, не выдержавшего и приписавшего это свойство Богу и открывшего долгую-долгую ложь, родившуюся когда-то и длящуюся до сих пор.
Из-за определенного чувства власти или триумфа над злом, чувства, полученного, по мнению верующих, от Бога, они словно освобождены от усилий углубляться и размышлять, потому что ведь зло — ничтожно. Считая зло ничтожным, не достойным ни времени, ни усилий ума или душевных сил, они сами его таким образом увеличивают и множат. Потому что такое их поведение перед лицом зла, такая близорукость — не что иное, как самое настоящее тщеславие и неуважение.
Ведь человек, создавая Бога, ничего отдельного не создал. Все равно единственный всемогущий — человек.
Перебирая богов, измолотых и израненных человеческими языками, мы ничего другого, кроме самих людей, так и не узнаем. Всякий раз человек — чистилище, человек — ад, человек — милосердие, человек — ангел, человек — сладострастный чертенок, человек — жизнь и человек — смерть. И никакой жизни или смерти. И никаких богов. Одно в определенном смысле беспредельное желание человека размножаться и пытаться не познать себя. Желание сделать себя непознаваемым и познать свою непознаваемость. Может, это желание так велико именно потому, что, вместо того чтобы погрузиться в свое несуществование и таким образом гораздо сильнее сотвориться, человека от страха пытается вновь и вновь впечатать в камень и чужие уши все новые и новые знаки, что он есть, правда-правда есть, сильно и очень. Хотя на самом деле от него ни духа.
Можно сказать, вся религия еще только беременна. Это чувство носится в воздухе. Чувство, что она не осуществилась, потому что ее замысловато плели и плетут из нитей ожидания неизбежности будущего. Как можно довериться божеству, не реализовавшему своего предназначения? Предназначения, которому придает смысл окончательная развязка всей завершенной истории. И какой верующий мог бы возразить, что об истории и принципах веры нет такого знания, которое позволило бы разграничивать веру разными резцами и долбилами, структурировать ее, себя, свои поиски и соединить все в какое-то незрелое и на каждом шагу вызывающее протесты образование? Или хотя бы после обрядов и проповеди упомянуть о том, что не следовало бы отбрасывать возможность, что мы, вероятно, заблуждаемся, что, вероятно, все жесты наших обрядов — сплошная ошибочность. Может, все, что известно о той или иной вере, — всего лишь гримаса голого крика со сдвинутыми бровями из неживых волос, режущая слух жалкими и ничтожными понятиями нравственности-безнравственности и еще более жалким спасением-падением. И не столько жалки сами эти понятия, как пути их употребления — ужасно путаные, потому что ужасно примитивные, потому что ужасно предсказуемые.
Именно предсказуемость должна была бы быть единственным критерием определить что-либо как пока — в настоящем — неперспективное. Как то, что жизненно необходимо изучить гораздо более последовательно и что пока непозволительно без большой отдельной науки, тщательности и внимания. Именно предсказуемость (гарантия, точность, отсутствие сомнения и т. п.) — непонятный, странный, неопределенный императив, указывающий на состояние исчерпанности идеи. Почему, скажем, Бог так божественно предсказуем? Потому что и шага не можешь назначить или решить, если само божественное предназначение еще не разрешено, не окончательно. Не так же ли страстно ищет сути веры тот, кто не дает себе труда отличить Бога от сахарницы, как и тот, кто содрал со своего тела кожу и стоит на коленях в снегу с лицом, покрытым слезами?
Чего доброго последний раздел, в некотором смысле, мог бы написать демон или его одержимая рука. Потому что от него несет сплошной самовлюбленностью, заставляющей обращать внимание на такой сор, как зло, неразличимое в нем во все времена, пространство и внимание к тому единственному истинному, поддерживающему состояние крови верующего желанию — уметь принять благодать Божью.
Однако кто бы мог сказать, что коленопреклоненный в снегу с залитым слезами лицом и читающий молитвы не тот же, кто стоит на коленях в снегу с залитым слезами лицом и читает молитвы? Только не верующий.
Признаюсь, что ничего не понимаю в людях. Это никакое не кокетство. Не раз и не два в жизни я мечтала, чтобы в разговоре на моем месте возник кто-нибудь, другой человек, и собеседник, почувствовав себя понятым, тут же приободрился бы.
Сразу хочу опередить тех, кто скажет, что именно эта несвежая и грязная, захватанная множеством чернильных пальцев мысль — «ничего не понимаю в людях» — и подсказала предпосылку, что людей нет. Вроде как: не понимаю — значит, нет. Но эта формула очень обманчива. И ни по какой другой причине, как только из-за ее непредсказуемости, из-за инертности в ее понимании. Ведь не ясно, что значит — не понимать, а что — не быть. В любом случае, предпосылка несуществования — это попытка углубиться в разрывающее сердце, сотрясающее тело, открывающее ум и головокружительное для души несуществование человека, одного из людей, единственного человека, всей их всеобщности, отдельного человека, в несуществование человека поучительного или презренного, живого или мертвого, как и в свое несуществование, порождающее эти и другие мысли.
Только чувствуешь все большую и все более волнующую, почти извращенную страсть и в то же время — совершенно спокойное бессилие перед лицом каждого индивида, перед лицом величия каждого индивида. Каким бы сопливым, непрогнозируемо утонченным или таинственно бессмысленным ни было то величие. Каким бы сакрально насыщенным, наивным, пронзительно-грубым, колючим или ледяным. Каким бы пустым ни было то величие. Каким бы нечутким, не видящим своего вероятного влияния на дальнейшую душевную жизнь собеседника (или на дальнейшую жизнь несуществования его души).
Одним из основных, опять же, на мой взгляд, ошибочных критериев качества человеческой природы является талант. Где талант — там красивость, душистость? Страшный подход. Ведь так называемый талант складывается из всего, чем талант не является. И если чьи-то глаза не любуются неталантливостью, если слух не в состоянии в шутках какого-то очень неспособного и не тонкого человека уловить все долгожданные и ценные моменты, детали или целое, раскрывающееся в его неловких устах невиданной мощью полноты (интеллекта, чувств и всякой прочей), то ему не следует и смотреть в сторону по-настоящему одаренного. Потому что перед лицом того, по-настоящему одаренного, он должен был бы почувствовать себя совсем слабеньким, не могущим постичь или хотя бы почувствовать воображаемую особость особого. Если нет способности без малейшей причины любоваться ничего не стоящим человеком, то перед лицом высокого предназначения тут же становишься предательски поверхностным. Как бы такое существо ни пыталось изобразить или описать большее предназначение, все будет лишь бессмысленными обгрызенными, осыпавшимися, с первым звуком заточающими, а не раскрывающими слогами и безжизненной теорией без вкуса и запаха, на что не стоит обращать ни малейшего внимания. Разве что, разумеется, решишь, что и такой увечный язык достоин любования. Потому что решение не любоваться — это единственное увечное существо, порожденное людьми.