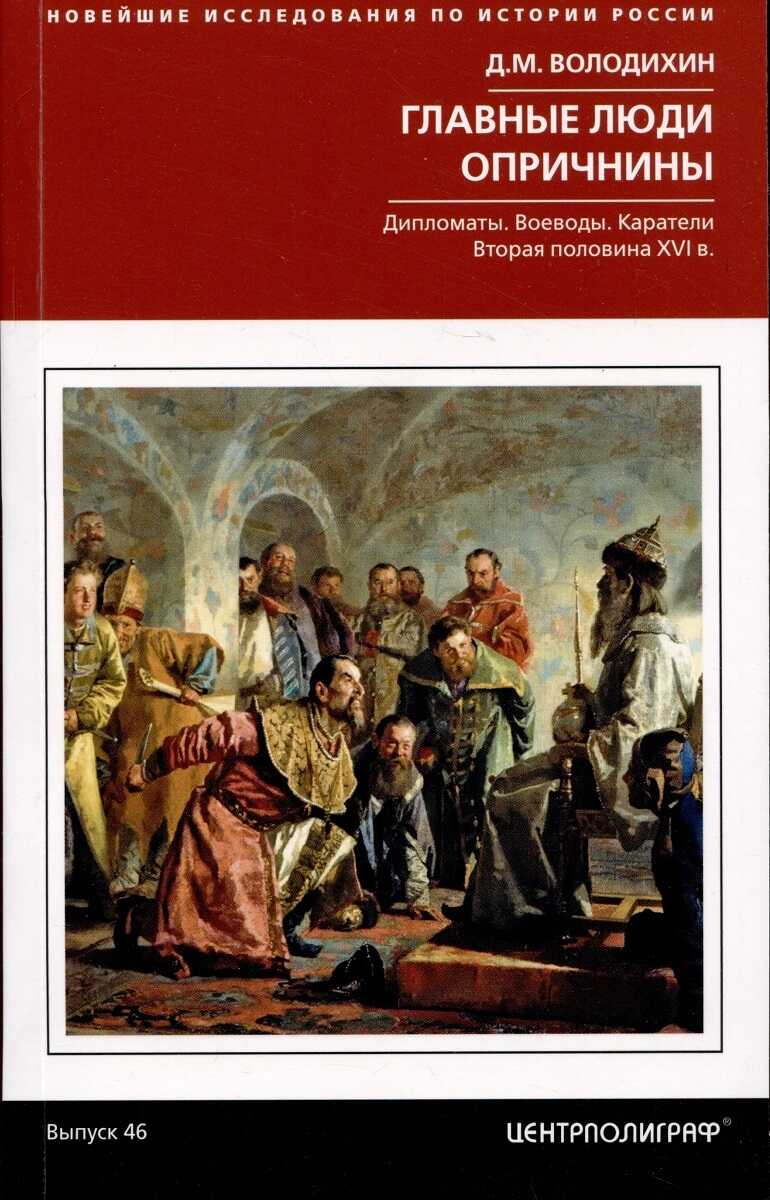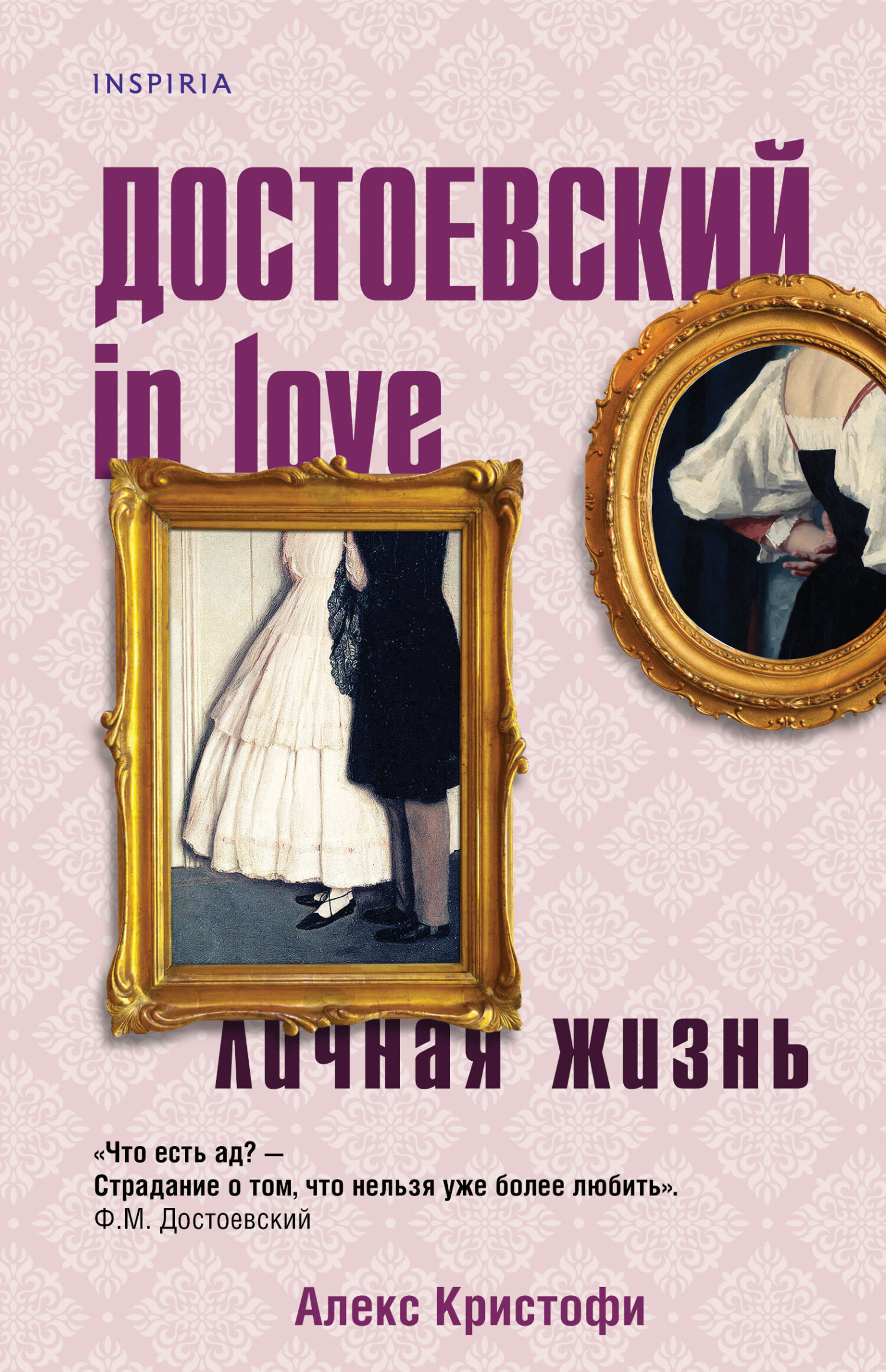Книга Такие люди были раньше - Авром Рейзен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Писал он быстро, не задумываясь. Сообщил другу, что собирается немного отдохнуть, города пока почти не видел, но первое впечатление хорошее: улицы широкие, а дома в старинном стиле, который так ему нравится! Завершая письмо, он просил ответить как можно скорее, потому что, честно говоря, не знает, надолго ли здесь задержится. Зависит от того, найдет или нет, чем тут заняться.
«Пишите мне, — закончил он, — на следующий адрес…»
Поставил двоеточие и задумался.
Какой адрес указать? В этой гостинице он пробудет дня два-три. С поддельным паспортом рискованно оставаться здесь дольше. И, кстати, хоть она и дешевая, для него это все равно слишком дорого. Надо бы сегодня же поехать за город и поискать тихую, маленькую комнатку где-нибудь в захолустье. Такая у него судьба, всю жизнь скрываться. Он слишком хорош, чтобы жить среди людей… Он никого не дурачит, не обманывает, кроме полиции, которой всегда называет вымышленное имя. Наверно, Бог простит ему этот единственный грех…
Итак, какой же адрес дать другу, который живет не скрываясь?
Гершон вспоминает адреса, по которым он жил в других городах. Вся жизнь проплывает перед глазами. Уже шестнадцать лет, с тех пор как он ушел из дому (а ему тогда было лет четырнадцать), у него с адресами постоянная неразбериха. Впервые приехав в город учиться, он не нашел жилья, ночевал в синагоге, а его бедная мать присылала ему письма на адрес главы ешивы. Этот глава ешивы был человек добрый, но слишком задумчивый, рассеянный, и письма от матери-вдовы отдавал ему недели через две после того, как они приходили… Потом Гершон пошел в солдаты, служил в большом русском городе. Там у него было даже постоянное жилье — казарма, но полковой адъютант не разрешал отправлять и получать письма на еврейском языке, и Гершон велел, чтобы ему писали на адрес тамошнего раввина. Те письма были уже не от матери, она умерла. Ему писали тетка и друг, тот самый, которому он пишет сейчас…
Отслужив, он начал странствовать, быстро оказался вне закона, стал жить по чужим паспортам. Называл себя Хаим Берман и Йосеф Фунт, Гецл Фишкин и Хона Гехт. Ему было двадцать семь, но через полгода он молодел на семь лет, еще через три месяца становился старше на целых двенадцать, а фоньки всему верили…
И вот, кажется, он снова чист перед законом. У него снова настоящий паспорт, он вернул себе настоящие имя и возраст. Но ему стало скучно. И он опять потерял имя, и возраст, и покой. Опять пустился в странствия, в бега от полиции и шпиков, из города в город, менял адреса или просил знакомых: «Можно мне будут писать на ваш адрес?..»
Гершону стало страшно: ничего у него нет, даже адреса…
Он приложит все усилия, чтобы найти постоянное жилье!
И он закончил письмо: «Впрочем, сейчас я не могу сообщить вам адрес. На днях найду комнату и тогда дам вам знать. Дождитесь моего следующего письма».
Он положил листок в конверт, заклеил и начал писать хорошо знакомый адрес. Его друг живет там уже десять лет! Сколько уже он, Шейнкинд, странствует по белу свету, меняет города, улицы, комнаты! А тот по-прежнему живет в одном городе, на одной улице, в одном доме, в одной квартире… Счастливый человек!
1911
Царица
В большом чужом городе Аронович всю зиму чувствовал себя лишним. Его угнетала не столько материальная нужда, сколько одиночество. Малочисленные знакомые все время были заняты, кто уроками, кто бухгалтерией. Только он был свободен почти целый день. В маленьком кафе, где он чуть ли не поселился, иногда удавалось завести беседу с соседями по столику, но Ароновичу попадались в основном молодые приказчики, а их мнение его не интересовало. Его душа жаждала тихого, искреннего слова, а здесь говорили громко, трескуче и все об одном: о деньгах и торговле. Иногда, правда, еще о женщинах. И Аронович, который считал женщину высшим идеалом, всегда вздрагивал, услышав, что говорят о них в этом кафе.
Он долго помнил, что ответил сосед по столику на его замечание о красивой, стройной официантке.
Каждый раз, вспоминая тот ответ, Аронович густо краснел и бормотал:
— Невежи! Циники!
Он жил только письмами, которые получал из дома, в основном от любимой сестры. Она писала часто, и ее письма были полны глубокого смысла. Он читал их вечерами, вернувшись в свою маленькую комнатушку. В голове Ароновича теснились мечты, желания и печали, ему казалось, что в комнате не хватает для них места. И он засыпал, уткнувшись лицом в подушку.
Но с первым дыханием весны его тоска стала еще сильнее. Весеннее солнце словно растопило печаль, которая за зиму накопилась и смерзлась в холодный ком. И печаль тихо и сладко растеклась по всему телу. Часы напролет он сидел в городском саду и думал о доме, о родном маленьком местечке, где не знают о весне, но только знают, что скоро Пейсах, и предпраздничная суета наполняет радостью и надеждой сердца простых, бедных, но прекрасных людей…
Если бы он не знал, как живут его родные, он подавил бы смущение и написал им: «Мои дорогие, я скучаю по вас, по местечку, по Пейсаху. Пришлите несколько рублей, и я прилечу!»
Но он знал, как тяжело им живется, и понимал, что может быть с ними лишь мысленно.
*
Накануне Пейсаха он встретил двух своих приятелей, Германа и Бориса. Оба были учителями древнееврейского. Один из них, Герман, сочинял стихи, которые очень нравились Ароновичу: в них звучали нежные, благородные тона любви. Одно стихотворение Аронович даже переписал и выучил наизусть. Герману было очень приятно, и он стал хорошо относиться к Ароновичу.
— Ну, куда на трапезу пойдете? — дружелюбно спросил Герман.
— Да, где на трапезе будете? — повторил вопрос Борис.
Аронович улыбнулся, тронутый их участием:
— А где я был на «Кол нидрей»?[74] В саду…
— Нет! — возразил Герман. — Йом Кипур — это другое. На Йом