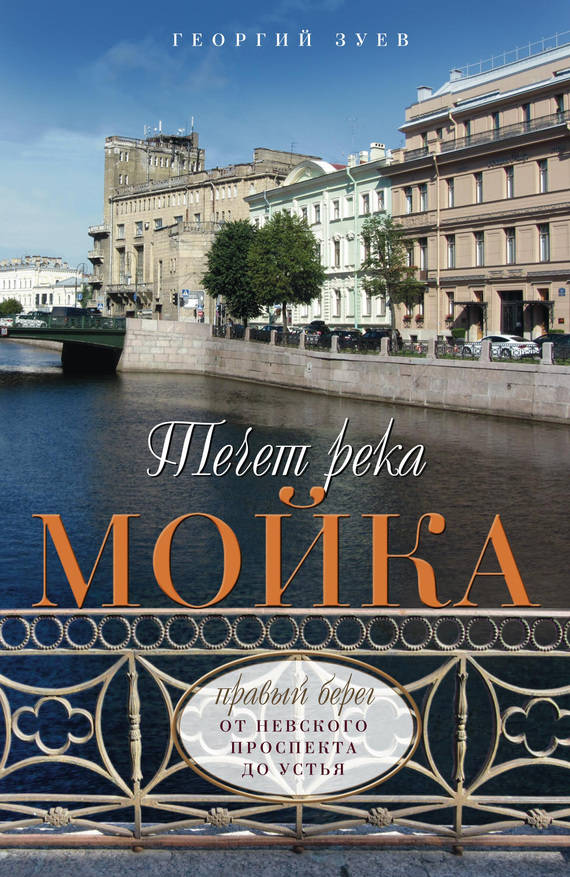Книга Год на Севере - Сергей Васильевич Максимов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он помолчал.
— И сколь велики эти волны — так вот теперь с ладьей бы идешь рядом да пополз на волну к хребту-то и стал на мель, верхушки мачты не видать, не то что ладьи самой, во как!.. А ведя, это морские волны! Это так... тьфу!
И рассказчик опять презрительно свистнул.
— Волна эта мелкая, бойкая, с ней опасливо: того гляди, подсечет и окружит. Волна эта немного от речной отстала. Та так вот совсем обижает, особе на сувоях: там это, где палая бы вода с прибылой встретится. Тут уж рулевой не зевай.
— Ну, а как же это, дядя Егор, на Мурмане-то лонись десятков семь ребят погибло. Такие бури стояли, что отродясь не запомнят?
— Что же? На то власть Божья, знамо, все, все от Его произволения. Тут нам с тобой, дядя Степан, делать нечего. Верно ли я говорю?
Дядя Степан глубокомысленно кивнул головой.
— В океане взводень укладывается не больно же скоро: и ветер перестанет, и другой завяжется, а взводень все рыдает, все гуляет... В море не так, в море взводень в полчаса угомонится, а и раньше, коли на морской ветер набежит какой ни есть горний.
Поощряемый этими расспросами и общим вниманием, хозяин, привыкший, приглядевшийся к морю и капризам ветров, продолжал рассказывать следующее:
— Про ветры нешто сказать тебе зараз, чтобы знал ты и напредки, коли в Колу и на Мурман едешь, все их обыки, всякий норов, значит. Взять бы восток морской, голомянный ветер боек и разгуливается скоро, глазом почесть мигнуть не успеешь, и крутит иной раз по морю завсегда целый день: а пошло этак солнце на ветер...
— Что же это значит?
— Стало этак солнце, значит, на веток, в стороне этой на небе-то: отишет ветер и отстанет, и взводняне пущает больше. И знай, перестал ветер, так либо ничего, либо другой падет, а уж тот старый и никогда почесть не ворочается, не играет уж... По ночам после встока больше шалоник (SW) ходит.
— Ну а этот каков?
— Совсем негодяй; пылит, словно угорелый, рвет все у тебя, ровно благует и почесть не дает никакого взводня. Совсем взбалмошный ветер: задул, закрутил, оборвал бечеву, пену пустил — думаешь, и несосветимую погоду завяжет, и невесть куда унесет тебя, коли попутный. Глядишь, поиграл час-другой-третий, попылил и опешил — и приругаешь дурака, и наплюешь в глаза. Такой!.. Вон полуношник (NO), север, запад — теплый ветер, те молодцы, с теми можно дело иметь, потому благородно и не обидно... Север, однако, не круто взводень пущает — разве уж крепко расходится и тянет долго...
— Летний каков? — спросил я, стараясь воспользоваться словоохотливостью Егора, не всегда разговорчивого, по большей части замкнутого и сосредоточенного в себе.
— То есть горние?
— Да.
— Про какой спросил-то: про летний?
— Про летний.
— Это, ведь, белоручка, дворянский сын. Под него спать на палубе ловко. Щекотит это по роже-то теплынью, умирать не надо. Таково любо!.. Так ли я, старина, говорю?
Старик опять молча кивнул головой и опять усмехнулся; даже на всегда мрачном лице хозяйского брата проскользнул род какой-то усмешки, и он переступил с ноги на ногу. Это замечено было Егором.
— Вон Петрухе-то какой не завязывайся ветер, все ладно. Полуношник хоть все трубы открой — не проймет: моржевист...
Хозяин замолчал, но вскоре счел за нужное прибавить еще следующее:
— Гагара кричит — на море беспременно падет сильный ветер. По старым временам на пятницу ветер сменяется, как бы ни играл круто...
— Да верно ли это, хозяин?
— С тем возьми!..
Полая вода продолжает подвигать нас, хотя и медленно, вперед. Потаились Шижмуи. Вместо них выплыли новые луды, из которых одним знатоки дали название Медвежьих Голов, другие обозвали именем Сеннухи. Далеко впереди выяснились высокие Кузова — цель настоящих наших помыслов и желаний. Каким-то матовым отблеском покрыты эти острова от вершин до мест прибоя волн и рисуются тускло: нельзя еще отделить гранита от того мелкого кустарника, которым, говорят, он вплотную усыпан.
— Гляди правее Седловатой луды, видишь?
— Ничего не вижу, но Седловатую луду узнаю и дивлюсь ее меткому прозвищу: лучше назвать ее едва ли можно...
— То-то! Совсем ведь седло... А направо-то видишь еще кое-что? — продолжал добиваться своего хозяин, когда вопрос возбудил всеобщее любопытство.
Двое работников смотрели туда же и тоже не понимали: отчего мне не видно того, на что указывает хозяин. Один из них даже не выдержал и дополнил:
— Вишь, белеть-нали стало! Совсем видно...
Но я по-прежнему ничего не видел. За поморами, хотя бы даже и в очках, не угонишься: они очень зорки и далекое видят ясно, благодаря безграничному горизонту моря, на котором с малых лет развивается их зрение. Только тогда, как нас значительно подвело еще дальше вперед, на NO выплыло как бы облачко, сначала незначительной величины, потом постепенно округлявшееся, резко обозначая свою подошву на месте прибоя волн. На этом облаке действительно забелела небольшая, но круглая точка. Над точкой прорезалась и загорелась золотая звездочка, одна, вот другая... третья, и еще, и еще...
Невольно дрогнуло сердце и не надо было сомнений и расспросов: само собой разумеется, что золотые звездочки эти принадлежали дальней изо всех русских обителей, монастырю Соловецкому, с которым связано столько живых впечатлений, обильный наплыв которых мешал найти в них единое целое.
Некоторое время виделась только серая масса с серебристо-снежным пробелом, который начинал постепенно увеличиваться и выделил из себя две церкви, еще что-то похожее на длинную стену, и вдруг все снова пропало.
— Темень подняло: дождя, знать, будет. А не надо бы нама-ка! — послышался голос хозяина.
— Зорок же, брат, ты и догадлив!
— Нам нельзя без того. Слепым-то у нас и на печи места много. Близорук в море будешь, так и нос расшибешь. Наше море не такое, чтобы корг этих, кошек, голышей не было, не такое!..
Предсказание хозяина сбылось: из теменцы — дальнего облачка — явилась вскоре над нашими головами целая и густая туча, обсыпавшая нас бойким, но скоро переставшим дождем, вызвавшим новое замечание Егора:
— В море встанет темень —