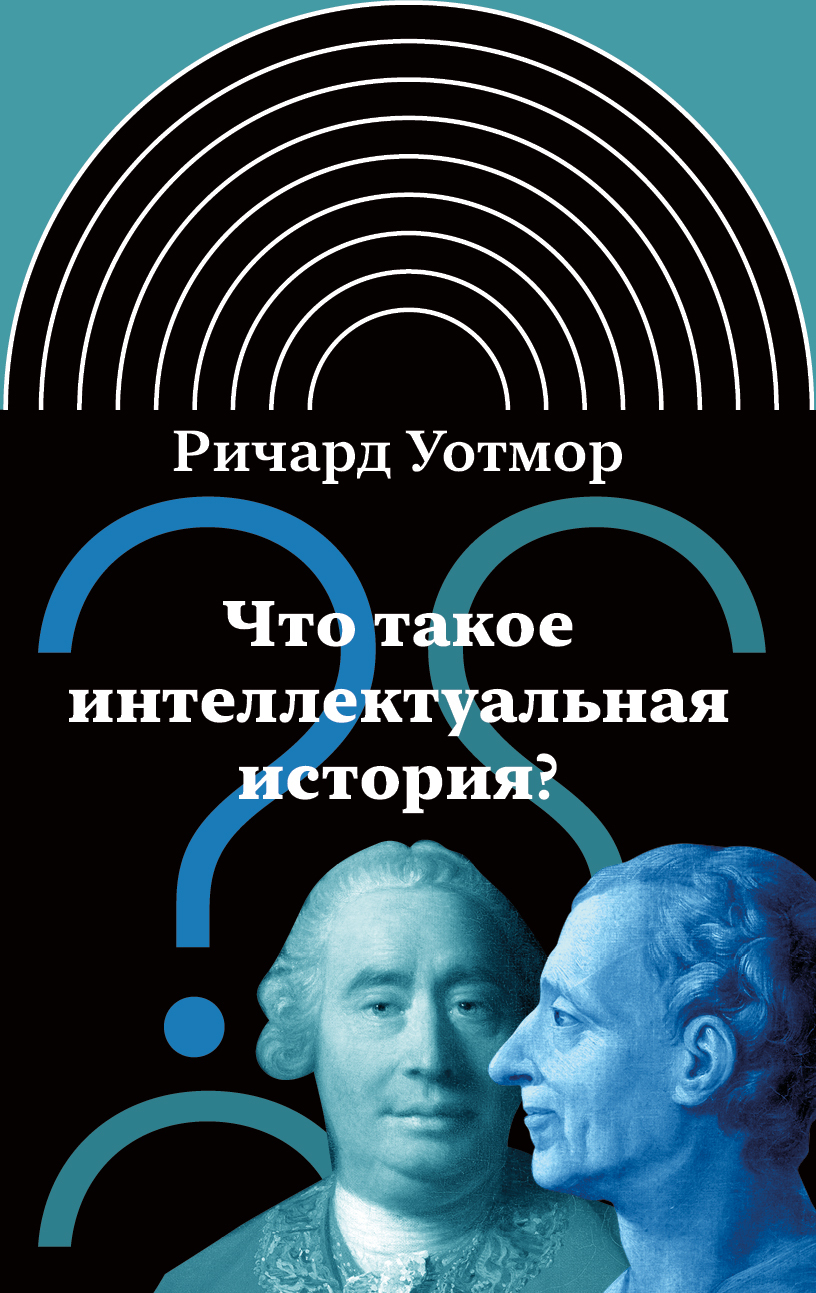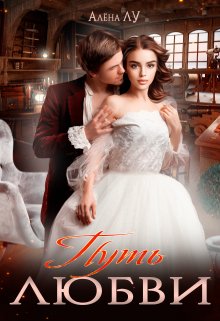Книга Заговор профессоров. От Ленина до Брежнева - Эдуард Федорович Макаревич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И черт дернул, еще при этом, читать лекции в Японском институте, что существовал тогда в Харбине при поддержке японского консульства. Потом в НКВД ему припомнят эти чтения. Но когда это еще будет?
А тогда в Харбине он жил с размахом, чему способствовало и приятельское общение. Собирались своим, «колчаковским» кругом — бывшие офицеры и профессор, их супруги. Прекрасно сервированный стол, вкусная еда в стиле русской кухни, непременные коньяк, кофе и карты, и, конечно, греющие душу беседы и воспоминания о себе и о России. Чаще всего устраивали застолье в доме полковника Адельберга, служившего в штабе Колчака, а теперь сотрудника Управления КВЖД, — пригласили как специалиста по топографии.
Жизнь Устрялова, преподавательская, издательская, редакторская, публицистическая, общественная, была на виду. Но ведь была еще и другая жизнь, тайная. Это когда он уединялся и думал о прошлом, примеривая его к настоящему, да и к будущему тоже. Что было, что есть, что ждет? Первое и последнее беспокоило, грызло более всего. Эти духовные переживания — в его письмах.
В Париж они летели. И шли ответы оттуда. Эта другая, тайная жизнь Устрялова особо интересна.
Но кто же был его парижским адресатом?
Парижский визави Устрялова и евразийская теория
Его адресат в Париже — некто Сувчинский Петр Петрович. Музыкальный критик, гуманитарий, русский интеллигент. Натура яркая, связавшая себя с евразийским движением, теоретик его, ставший лидером левого крыла евразийства.
Он то и стал инициатором переписки с Устряловым, послав ему осенью 1926 года первое письмо и несколько книжек, среди которых азбука евразийства «Наследие Чингисхана» Николая Трубецкого.
Устрялов ответил. Завязавшаяся переписка стала тайной как для Устрялова, так и для Сувчинского. Тайной, скрывавшейся от коллег, соратников, ближайшего окружения.
Для Сувчинского тайной, потому что обсуждение евразийской теории, возможность ее применения шло с таким нежелательным лицом, как Устрялов, который породил сменовеховство, запятнав себя в глазах профессорской эмиграции благожелательным отношением к советской России.
А для Устрялова она была тайной, потому что евразийство — это была концепция развития России, заключавшая некую концентрированную национальную идею, которая, конечно, конкурировала с концепцией развития СССР, осуществляемой большевиками. Эта концепция отслеживалась советскими органами безопасности, и попадать в их досье у Устрялова не было намерений.
Затевая эту переписку, Сувчинский помнил, как резко восстал против Устрялова сам первый идеолог евразийства Николай Трубецкой, тогда сидевший в эмиграции в Праге. Позиция Устрялова по отношению к советской России его выводила из себя. Устрялова он вообще не считал мыслителем, видел его недалеким, неспособным создать собственное философское мировоззрение. И почему-то думал, что тот только и жаждет «примазаться» к евразийцам, прихватить их мысли. В этом он убеждал Сувчинского, не разделявшего столь оголтелой позиции. Вот что он писал ему34 по этому поводу в феврале 1922 года:
«Что это Вам померещилось насчет Вех? Какие тут могут быть разговоры о соединении с этими хамами? Вы говорите о предоставлении в наше распоряжение религиозно-культурной стороны. Но что же останется у них? И как можно под одной обложкой соединять наши писания, имеющие все-таки всегда некоторое принципиальное устремление ввысь и “их” писания, состоящие в цинично-развязном оправдании оппортунизма и беспринципности. Когда у “них” проскальзывает принцип, или “идеология”, это всегда какие-нибудь судороги — вызывающие пошлость самого бульварно-либерального (а ля Ллойд Джордж) пошиба. Большей частью даже и этого нет, а есть подобострастное подлаживание под чужой тон, пассивное прислушивание к тому, откуда ветер дует, или иногда саддическое любование собственным моральным падением. Вот уж действительно нашли с кем блокироваться! Вы говорите “не идеологически, а тактически”. Но какая у них тактика? Подольстится к барину в надежде, что кое-что перепадет — вот и вся их тактика. <…> Итак, с веховцами — никаких блоков. Если они будут ухаживать, — пускай. Ключников меня усиленно зазывал, но я его отшил (а он не только утерся, но даром присылает мне свой журнал). Дело в том, что он, хотя и порядочнее других (впрочем, Устрялов еще порядочнее), но все-таки хамоват (Устрялов же наивен и придурковат). Если сейчас он хвалит евразийцев, то это показывает, что мы ему страшно нужны. Очевидно он надеется получить от нас оригинальную идеологию, которую они сами по своей бездарности создать не могут (как не стараются, все только и выходит, что “в Каноссу”, да “в Каноссу”). Но на это, разумеется, нельзя соглашаться: это значило бы прямо сознательно превращать себя в простое орудие большевистской пропаганды, которое будет отброшено по миновении надобности»35.
Это раздраженное письмо Трубецкого лучшее свидетельство увлеченности Устрялова уже тогда, в 1922 году, концепцией евразийства. В ней он видел силу, идейно превосходящую сменовеховство, стратегическую силу, обгоняющую не столько смену вех, сколько сами вехи. Превосходство это было в том, что евразийство к тому времени уже оформилось в социально-философское учение, в котором религия и философия обосновывали идею России как самобытной цивилизации.
Да, конечно, источником евразийства было славянофильство, прежде всего взгляды К.Н. Леонтьева. Из славянофильства пришла идея соборности, как «единства во множестве». В евразийстве эта идея была возведена в принцип существования личности, этноса, социальной группы, класса, государства и вознесена на пьедестал православной церкви, как высшей сферы соборности. И идеология православия становилась главной в духовной жизни. Соборность, конечно, предполагала в устройстве экономического хозяйства гармоничное сочетание коллективной и частной собственности на основе «общего дела». Не прибыли, а «общего дела». Это была философия хозяйствования.
А будущее государственное устройство, согласно евразийскому взгляду, должно было быть однопартийным, ибо многопартийность — достижение европейской цивилизации. Федеративное устройство должно быть под управлением «ведущей» власти, так называемого «правящего отбора», выдвигаемого непосредственно народом.
Провозглашая идею самобытной цивилизации, евразийцы понимали, что она войдет в явное противоречие с европейской цивилизацией. Они тут ориентировались на концепцию Н. Данилевского о культурно-исторических типах и критически оценивали попытки европейцев абсолютизировать свои ценности, представить свою культуру как общечеловеческую. Порой они рассматривали ее как зло, потому что считали, что именно европеизация России, положенная Петром первым, привела к социальному расслоению народа, отрыву власти и правящего класса от народа, что обернулось революциями 1917 года.
Заблуждение? Возможно. Но несомненно, что профессорские умы тогда, в начале 20-х годов двадцатого века, породили евразийскую теорию. Первым закоперщиком был Николай Трубецкой. Его метод культурцентризма отлично держал всю концепцию. Ум был по рангу. Из аристократического рода Трубецких, сын князя Сергея Трубецкого, ректора Московского университета и философа, — Николай Трубецкой закончил отделение сравнительного языковедения и преподавал в нем. Грянувшей социалистической революции 1917 года он ответил бегством на юг, где нашел себя в университете Ростова-на-Дону. С приходом красных бежал в Болгарию. Там Софийский университет стал его научным пристанищем. Там же он издал книгу «Европа и человечество», на страницах которой уже проступили контуры будущей евразийской теории. Начиналась новая жизнь, связанная с созданием этой теоретической концепции. Он обретает научных сподвижников — Петра Сувчинского, Георгия Флоровского, Петра Савицкого. С ними выпускает сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». Но был еще Венский университет, где Трубецкой продолжает «евразийские» поиски. Он станет его последней научной пристанью. Там он разработал фонологическую теорию, создал школу славянского структурализма, заявил о необходимости «открытия» древнерусской литературы (по типу открытия русской иконы). Но ведущей звездой его научного небосклона до конца дней оставалась евразийская теория.
Евразийство — единственно новаторская (несмотря на свой синкретизм) историко-философская доктрина, возникшая в русском зарубежье, — считает