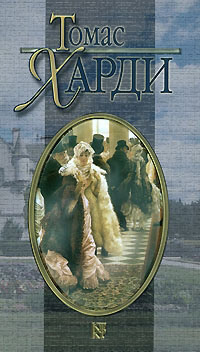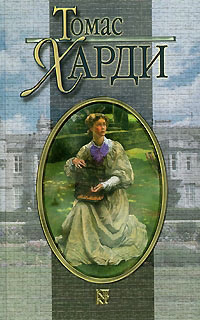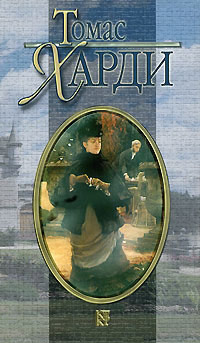Книга Возвращение на родину - Томас Гарди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
- По-настоящему надо было ему написать, еще когда ты собиралась замуж. Он не простит тебе такой скрытности.
- Простит, когда узнает, что я медлила потому, что боялась его огорчить, и, кроме того, я не знала, что он так скоро приедет. И, главное, тетя, я не хочу, чтобы из-за меня расстроился ваш праздник; вы хотели на рождество созвать гостей, пусть так и будет. Откладывать только хуже.
- Я и не собираюсь откладывать. Неужели ж мне признаться перед всем Эгдоном, что я потерпела поражение и стала игрушкой такого человека, как Уайлдив? Ну, кажется, у нас уже довольно ягод, отнесем-ка все это домой. Пока украсим дом да повесим омелу, пора уж будет идти его встречать.
Томазин слезла с дерева, стряхнула с волос и платья осыпавшиеся ягодки, и они с теткой пошли вниз по склону; каждая несла половину собранных веток. Было уже почти четыре часа, солнце покидало долину. Когда небо на западе стало красным, обе родственницы снова вышли из дому и углубились в вересковую пустошь, но уже в другом направлении, чем утром, держа путь к определенному месту на далекой большой дороге, по которой должен был возвращаться тот, кого они ждали.
Юстасия стояла на пустоши у самого ее края и глядела в ту сторону, где находилась усадьба миссис Ибрайт. Ни звука, ни света, ни движения не исходило оттуда. Вечер был холодный, кругом темно и пусто. Она решила, что гость еще не прибыл, и, подождав минут десять - пятнадцать, повернула обратно.
Она не так еще далеко отошла, как вдруг впереди послышались голоса: по той же тропе ей навстречу шли люди и разговаривали. Вскоре на фоне неба стали видимы их головы. Встречные шли медленно, ни лиц, ни одежды нельзя было разглядеть в темноте, но судя по походке это не были поселяне. Она сошла с тропы, чтобы их пропустить. Трое: две женщины и мужчина; женские голоса она узнала: Томазин и миссис Ибрайт.
Они прошли мимо, но в ту минуту, когда поравнялись с ней, должно быть, заметили ее темный силуэт. Ибо мужской голос сказал:
- Доброй ночи!
Она пролепетала что-то в ответ, скользнула мимо них, потом обернулась. Секунду она не могла поверить, что случай нежданно-негаданно пошел навстречу ее тайным помыслам - дал ей на миг соприкоснуться с душой того дома, который она ходила осматривать, с тем человеком, не будь которого ей и в голову бы не впало идти смотреть на этот дом.
Она сощурилась, силясь их разглядеть, но не смогла. Однако душевная ее напряженность была столь велика, что слух как бы заменил ей зрение, казалось, она стала видеть ушами. В иные минуты такое расширение способностей кажется возможным. Глухой доктор Китто, вероятно, был во власти подобной же иллюзии, когда утверждал, что сделал путем долгой тренировки свое тело настолько чувствительным к звуковым колебаниям, что уже воспринимал их всем телом не хуже, чем другие - ушами.
Она впивала каждое слово, произнесенное собеседниками. Они говорили не о каких-нибудь секретах. То была обыкновенная живая болтовня родственников, долгое время бывших в разлуке - телом, если не душой. Но Юстасия слушала не слова; через минуту она уже не могла вспомнить, что было сказано. Она прислушивалась к одному-единственному голосу, мало принимавшему участия в разговоре, всего, может быть, на одну десятую по сравнению с другими, голосу, пожелавшему ей "доброй ночи"! Он иногда говорил "да", иногда "нет", иногда спрашивал о каком-нибудь давнем жителе Эгдона. И однажды поразил ее замечанием о том, как приветливо и дружелюбно смотрят окрестные холмы.
Голоса отдалились, ослабели, угасли. Только это и было ей дано, а все остальное скрыто. Но никакое другое событие не могло бы так ее взволновать. Долгие предвечерние часы она провела в грезах, стараясь представить себе, каким обаятельным должен быть человек, прибывший сюда прямо из Парижа, проникнутый его духом, знакомый со всеми его красотами. И этот человек только что приветствовал ее.
Как только смутные фигуры встречных растаяли вдали, оба женских голоса изгладились из памяти Юстасии; но мужской сохранился. Почему? Было ли в голосе сына миссис Ибрайт - потому что, конечно же, это был Клайм! - было ли в нем что-то необычайное по звуку? Нет, просто он был всеобъемлющим. Весь мир эмоций был доступен тому, кто произнес это "доброй ночи". Эту его особенность она уловила сразу; остальное дополнило воображение. Только одну загадку оно не помогло ей разгадать: каковы же должны быть вкусы и склонности человека, который в косматых взгорьях Эгдона увидел приветливость и дружелюбие?
В таких случаях, как этот, тысяча мыслей проносится в разгоряченной голове женщины; их можно проследить на ее лице, но эти изменения облика, хотя явные, очень невелики. Она просияла; вспомнив о лживости воображения, поникла; приободрилась; вспыхнула; опять охладела. Круговорот обличий, порожденный круговоротом видений, встававших перед ней.
Юстасия вошла к себе в дом; она была в приподнятом настроении. Капитан блаженствовал у камина; он разгребал кочережкой пепел, обнажая докрасна накаленную поверхность торфа, и багровое пламя озаряло каминную нишу, словно отблесками от кузнечного горна.
- Почему мы не знакомы с Ибрайтами? - сказала она, подходя и протягивая к теплу свои нежные руки. - Жалко. Они как будто вполне приличные люди.
- А шут его знает почему, - отвечал капитан. - Сам-то старик мне даже правился, хоть и был колючий, как терновая изгородь. Да ты не стала бы к ним ходить, будь мы даже знакомы.
- Почему?
- На твой городской вкус, они чересчур деревенщина. Едят на кухне, пьют мед и бузинную наливку и пол для чистоты песком посыпают. Вполне разумный образ жизни, по-моему, но как бы ты на это посмотрела?
- Но ведь миссис Ибрайт, кажется, благовоспитанная особа? Говорят, дочь священника?
- Да. Но уж ей пришлось жить, как у мужа было заведено. А потом небось и сама привыкла. Ах да, помню, я чем-то ее оскорбил, сам того не желая, и с тех пор мы не виделись.
Ночь, которая за этим последовала, была для Юстасии так богата впечатлениями, что навсегда ей запомнилась. Ей привиделся сон - и вряд ли кого из известных в истории сновидцев, от Навуходоносора до Свофгэмского лудильщика, посещал когда-либо сон более многозначительный; а уж обыкновенной девушке, вроде Юстасии, наверняка никогда не доводилось увидеть такой сложный, загадочный и волнующий сон. В нем было столько же разветвлений, как в Критском лабиринте, такая же переменчивость, как в северном сиянии, буйство красок, как в июньских цветниках, и многолюдье, как на коронации. Для царицы Шехеразады такой сон, пожалуй, немногим бы отличался от действительности; девушка, побывавшая при всех дворах Европы, возможно, сочла бы его только занятным; но для Юстасии в ее скромной доле он был ослепительным и волшебным.
Однако постепенно в этой смене образов выделилась одна сцена, более связная, где знакомые черты Эгдонской пустоши смутно проступали, как фон, за блеском и оживлением действия. Юстасия танцевала под чудную музыку рука об руку с рыцарем в серебряных латах, который сопутствовал ей и во всех предыдущих фантастических превращениях; забрало на его шлеме было опущено. Извивы танца приводили ее в восторг. Ласковый шепот касался ее слуха, ей было сладко, как в раю.