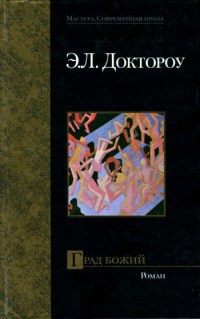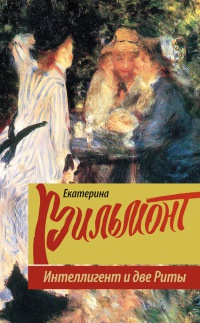Книга Божий мир - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Прибыли? – слабым, подхрипывающим – да она ли сказала?! – голосом спросила мама, не открывая глаза шире, будто не хотела никого и ничего видеть. – Слава богу, – уже угадал я по её губам. Смотрела мимо нас в пустой, затянутый темью угол под самым потолком.
«Опя-а-ать!..» – дёрнулось так, будто на разрыв или рывок, моё сердце. Но что «опять» – я и не хотел, и уже не мог вымолвить.
– Мама выгнала отца, – шепнула мне Люба, потирая пальцами набухшие сухие выплаканные глаза. – Снова задурил… Какой же он непонятный!
И в этих её некрасивых воспалённых глазах, и в этих её выдавленных злых словах «Какой же он непонятный!» нет уже ничего детского, девчоночьего, а только взрослое горе и отчаяние. И сейчас в сумерках дома – отчего же пораньше при свете не примечал? может, чрезмерно был захвачен собой, своим детством с играми и весельем? – я впервые разглядел, что наша красавица и умница Люба очень похожа на маму, особенно на тот её великолепный молодой портрет над комодом, и это открытие отчего-то меня нехорошо тронуло и даже опечалило.
Когда за окном всё собою придавил мрак ночи и сугробов, приходил отец. Мама ещё раньше запёрлась на все запоры и замки и запретила нам открывать ему. Он умолял впустить, просил прощение, ласково – утончая голос – звал нас по именам, но мама грозно и молниеносно взглядывала на каждого, кто, как ей могло казаться, хотел подойти к двери, и мы не смели ослушаться.
– Пропаду я без вас, родные мои, – как из длинной-длинной трубы, с гулом докатывался жалкий – «Да его ли?!» – голос отца.
– Аня, Аннушка! Не будь ты такой жестокой…
Мама недвижимо лежала; мне показалось, что вся она оледенела. Мне стало страшно и тоскливо; я почувствовал себя знобко, хотя обе наши печи были протоплены на славу. «Почему, почему она не хочет простить папку? Ведь как просто – взять и простить!..» – Но верил ли я по-настоящему, что столь может быть просто в жизни – взять и простить?
Отец, потолкавшись у дверей, поговорив с собаками Байкалом и Антошкой, ушёл во тьму; я прислушивался, прилипнув ухом к жгуче холодному окну, с необъяснимой надеждой, как вскрипывал под его ногами снег.
Мы не спали. Без света сидели по комнатам на кроватях и молчали. Что принесёт новый день в наш дом? Новую горесть, печаль, разочарование, очередные скитания? Неужели и вправду невозможно нам жить в радости и согласии?
Мама неожиданно встала и – сняла со стены гитару. Тронула струны раз, ещё раз. Тихонько, будто пугливо, откачнулась во тьму комнат неясная расстроенная мелодия. Я разглядел, как поморщило мамины губы улыбкой.
Ещё коснулась, ещё разок. Но нужная мелодия, кажется, не выходила. Мама прошлась по струнам вроде как строже, требовательнее, что ли.
И вдруг – что-то дребезжаще треснуло, разорвало только-только родившуюся – возможно, ту – мелодию, разбито и хлёстко следом зазвенело, и в сердце моё ударило, точно чем-то тупым и твёрдым, тишиной.
– Лопнула струна, – невероятно буднично, словно бы так и должно было быть, сказала мама. – А ведь я легонько наигрывала… искала… теперь, видать, долго не найти мне…
Мы сбежались со всех комнат к маме, прижались к ней. Мы всё ещё были нашей большой единой семьёй.
К утру столько наворочало этого влажного, тяжёлого снега, что мы не смогли сразу открыть дверь. Но нам и не хотелось никуда идти, не хотелось покидать дом: в нём тепло, чисто, обжито́, в нём мы вместе, а там, на улице, в большом предзимье, мы разделимся и каждый пойдёт по своей дороге. А вдруг заблудимся, не встретимся, да бог знает, что ещё может стрястись? Но – надо выходить: закончились каникулы, пора идти в школу, а маме – кормить поросят, потом пробежать по конторам, чтобы помыть полы.
На крыльце сияние снега ослепило меня, хотя солнце ещё не взошло в полную меру. Папкиных следов не было, вообще никаких следов ни от нас, ни к нам не было. Я первым, увязая, протопал до дороги, влился нашей дорожкой в общие стёжки улицы, наших соседей, моих друзей.
Прошагал немного, не выдержал – обернулся. Как был прекрасен наш казённый, «казёльный» дом, в сентябре выкрашенный папкой и мамой в зелёный сголуба цвет! «Вот тебе, бродяге, морская волна – плыви», – задумчиво и улыбчиво сказала тогда мама папке, отставив кисть; он усмехнулся, промолчал, глубоко затягиваясь дымом папиросы.
Мне захотелось вернуться в дом прямо сейчас.
Поминутно оборачиваясь, я шёл стёжками-дорожками в школу. А дом превращался в «морскую каплю» на белом-белом море снегов. И вскоре «капля» слилась с прекрасным сияющим светом этого нового прекрасного утра.
1
Илья Панаев спал. Тонкая с длинными пальцами рука, лежавшая на высоком изгибе атласного ватного одеяла, скользила, скользила и упала-таки на пол. Илья зашевелился, потянулся всем своим сильным молодым телом и перед самим собой притворился спящим, зажмурившись и по макушку спрятавшись под одеяло. Не хотелось расставаться с тёплым, светлым сновидением, которое почему-то тут же позабылось в картинах и зрелищах, но, точно угли угасающего костра, ещё грело душу. Илья подумал, как обидно и несправедливо, когда что-то хорошее, приятное пропадает, куда-то уходит, а то, чего никак не хочется, привязывается, липнет, тревожит. А не хотелось сейчас Илье одного и самого, наверное, для него главного – идти в школу. Как стремительно закончились январские каникулы, – снова школа, уроки, учителя. Какая скука!
Он спрыгнул с постели, потянулся, похлопал себя по узкой груди ладонями, как бы подбадриваясь, включил свет и перво-наперво – к зеркалу: сошли или нет за ночь три прыщика, которые нежданно-негаданно вскочили вчера? Сидят, черти! – досадливо отвернулся он от зеркала. Как стыдно будет перед одноклассниками, особенно перед девчонками и Аллой!
На кухне мать пекла пирожки. Отец дул на горячий чай в стакане и боязливыми швырками словно бы выхватывал губами и морщился.
– Отец, Илья поднялся, – как бы удивилась и обрадовалась Мария Селивановна, увидев вошедшего на кухню своего заспанного сына. – А я, дырявая голова, позабыла разбудить-то. Испугалась уж! А ты вон что, сам с усам, – говорила и подбрасывала она на потрескивающей сковородке пирожки.
– В школу, засоня, не опоздай, – счёл нужным строго, с ворчливой наставительностью сказать Николай Иванович и с хрустом откусил полпирожка.
– Не-е, папа, не опоздаю, – отозвался сын из ванной.
Отец развалко, как медведь, прошёл в маленькую, тесную для него, высокого и широкого, прихожую, натянул на свои мускулистые плечи овчинный заношенный до блеска полушубок, нахлобучил на коротко стриженную крупную голову свалявшуюся кроличью шапку, низко склонился к маленькой жене и деловито чмокнул её в мягкую морщинистую щёку.
– Ну, бывай, мать.
Перекатисто вышагивал он по ступенькам с третьего этажа. А Мария Селивановна вернулась в кухню, пошаркивая войлочными, сшитыми мужем, тапочками.