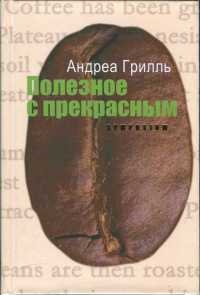Книга Кровожадные сказки - Бернар Кирини
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды мы спросили Пьера, где он родился: наш друг ужасно смутился и не захотел отвечать. Мы не отставали, и он признался, что никогда не знал, в каком городе появился на свет: отец утверждал, что в Брюсселе, а мать говорила, что в Токио. У него два свидетельства о рождении, выданные в один и тот же день в королевстве Бельгия и в Японии. Пьер показал нам два снимка — он во младенчестве: на первом его мать в голубом халатике держит сына на руках под растроганным взглядом отца; на втором — мать в лиловой ночной сорочке склонилась над колыбелькой, отец стоит за ее спиной и смотрит в объектив. «Обе фотографии были сделаны в день моего рождения в двух разных местах, находящихся на расстоянии тысяч километров одно от другого. — Пьер на мгновение задумался, потом улыбнулся. — Ну что же! Если это повторится в момент моей смерти, вам придется хоронить меня дважды».
«Сезонность» Пьера Гулда: много лет его волосы уподоблялись листве деревьев. В октябре из белокурых они становились рыжими, а в декабре выпадали. Весной шевелюра отрастала со сказочной быстротой; много раз рассеянные птицы приземлялись к нему на голову. «С волосами на лобке та же история, — заявил он как-то раз, — и, хотите верьте, хотите нет, в апреле они ярко-зеленые». В подтверждение своих слов он продемонстрировал клок чего-то бурого, что больше всего напоминало пучок пожухшей луговой травы, хотя Пьер уверял, что вырвал их прошедшей весной из лобка.
Пьер частенько заявляет, что при рождении всем людям достается равная доля удачи, а самооценка зависит от переживаемых обстоятельств: тот, на кого полгода сыплются несчастья, везунчиком себя не назовет, а сорвавший банк в игре вряд ли станет роптать на судьбу. На самом деле все это ничего не значит: колесо удачи со скрипом повернется и к смертному часу каждый израсходует строго ограниченную — не больше и не меньше, чем у других, — долю удачи. «Вот тут-то, — продолжал Пьер, — и нужно проявить характер. Возьмем для примера меня: я не пускаю дело на самотек, не хочу, чтобы судьба нанесла мне удар из-за угла, и строго регулирую чередование везения и невезения. Могу продемонстрировать…» Мы предложили Пьеру совершить в уме сверхсложные математические расчеты (2344 помножить на 7776, 57600 разделить на 643 и т. д.); он отвечал наугад, не задумываясь, и каким-то чудом дал один правильный ответ. «Везуха, невезуха, везуха, невезуха, — с улыбкой прокомментировал он. — Я расчерчен, как нотная бумага». Мы перешли от счета в уме к знаниям из области общей культуры, а именно — к переводу на языки, которых Пьер отродясь не учил: балийский, суахили или литовский. В одном случае из двух Пьер давал верный перевод, и, не будь мы привычны ко всему в общении с этим человеком, сочли бы его гениальным аутистом.
Пьер Гулд застенчив. Влюбившись в женщину, он в ее присутствии демонстрирует полнейшее безразличие и даже не заикается о своих чувствах, от чего ужасно страдает, но признаться не может. Так проходит много месяцев, а иногда и лет, пока страсть Пьера не угаснет или он не влюбится в другую, помоложе или покрасивее. Встретившись с объектом прежних вожделений, он ходит гоголем, ведет себя крайне вызывающе, всячески подчеркивая одержанную победу. Бедняжка, ни сном ни духом не ведавшая о «вдохновленных» ею терзаниях, спрашивает, чем заслужила такое отношение.
Своим жизненным девизом Пьер Гулд выбрал две строки из стихотворения поэта Норжа:[19]
Верить только в легенды
И забыть о жизни!
Расписные яйца Жака Армана прославили его во всем мире. Начав свою карьеру живописца на холстах и прочих плоских поверхностях, в тридцать лет он раз и навсегда избрал для своей живописи яйца. «Из всех творений природы, — говорил он, — самое совершенное, самое чистое и самое прекрасное — яйцо. И шару, и кубу, и пирамиде до него далеко». Первые же его произведения имели большой успех; всего за несколько лет он стал одним из самых известных современных художников, и ценители говорили «яйца Жака Армана», как сказали бы «полосатые колонны Бюрена», «синий цвет Ива Кляйна» или «компрессии Сезара».[20]
Все его произведения были описаны в каталогах по единой форме: сначала шло название, затем вид живописи, происхождение яйца и, наконец, его размеры (в миллиметрах) и вес до опорожнения (в граммах). Самыми знаменитыми были «Замбезийский пейзаж», живопись маслом на яйце страуса, 193x143 мм, 1650 г; «Печальная женщина за туалетом», живопись яичным желтком на курином яйце, 53x43 мм, 60 г; «Маленький рой черных мух», рисунок углем на яйце жаворонка, 25x17 мм, 4 г и «Посвящение М. К. Эшеру»,[21]рисунок цветными карандашами на яйце лебедя, 115x76 мм, 350 г. Цены на них достигали астрономических цифр, и коллекционеры выкладывали миллионы за обладание самыми дорогими.
Я познакомился с Жаком Арманом на его выставке, устроенной Национальным музеем современного искусства в 1987 году. Художнику было восемьдесят лет, и жить ему оставалось совсем недолго; я, однако, запомнил его жизнерадостным насмешником, а уж в красноречии ему так же не было равных, как и в живописи. Я в ту пору работал в одном искусствоведческом журнале. Главный редактор решил посвятить Жаку Арману целых две полосы. Мэтр согласился встретиться со мной, но принимать меня у себя дома не захотел и предложил прогуляться по выставке вечером, после закрытия музея. Мне идея понравилась, и в назначенный день я отправился на встречу вместе с редакционным фотографом.
На выставке, занимавшей восемь залов, экспонировались триста пятьдесят произведений. Там можно было увидеть первое расписное яйцо Жака Армана, самые знаменитые его серии, а на почетных местах красовались уникальные экспонаты — некоторые из них художник представил публике впервые, например десять икринок рыбы-луны, расписанных иглой под микроскопом, диаметром не больше полутора миллиметров, которые были выставлены под увеличительным стеклом. В каталоге значилось, что в собрании представлены восемьдесят видов птиц и десять видов рыб и что Жак Арман использовал более тридцати пяти различных техник живописи, в том числе собственного изобретения.
Фотограф, сделав свою работу, откланялся, и мы с Жаком Арманом остались одни в музее, — впрочем, не совсем одни: ночной сторож, флегматичный толстяк, мерил залы шаркающими шагами. Жак Арман, в толстом шерстяном жилете, похожий со своей скрывающей губы белой бородой на друида, переходил от яйца к яйцу и говорил, не переставая, да так складно, что мне даже не пришлось задавать ему заранее заготовленные вопросы: он все их предугадывал и порой формулировал сам, как бы усомнившись в своем творении. С озабоченным видом он интересовался моим мнением и молча обдумывал мой ответ, устремив взгляд в потолок.