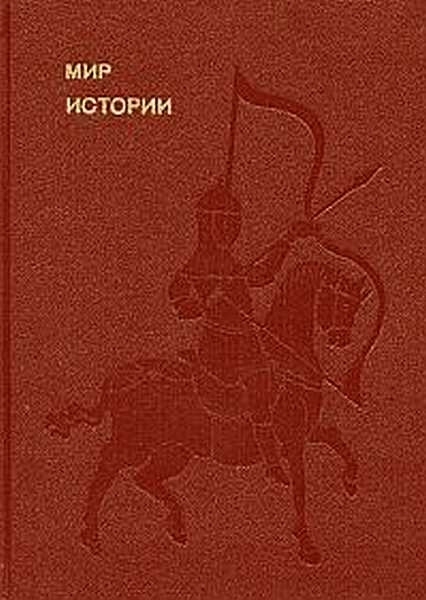Книга Доктор, который любил паровозики. Воспоминания о Николае Александровиче Бернштейне - Вера Талис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что-то все же заплатили. Это какой был год?
Сын родился 6 декабря 1951 года. Значит, это был уже 1951 год.
Кампания усиливалась?
Очень. Уже началось «дело врачей».
Интересно, эти кампании всегда усиливались постепенно, а не начинались с максимума?
Конечно, постепенно. Вовлекая все больше людей. Губя репутации, во всяком случае в глазах порядочных людей. Как-то люди очень четко в этом плане разделялись. Ну, впрочем, как и в наше время. Мы видим, как люди разделяются по ту или эту сторону – вылизывать власть или пытаться что-нибудь сказать. При этом первых, к сожалению, становится все больше.
Это очень страшно.
Это страшно.
И больше вы с Николаем Александровичем не встречались?
Больше нет. Последняя встреча была летом 1951 года. После рождения сына я не работала и не могла никуда устроиться потом на работу в течение шести лет.
Шесть лет?
Да. Из аспирантуры уволена, комсомольские дела тоже тянулись за мною. Шесть лет я была дома с сыном. Муж работал. Кое-как тянули.
А муж был медиком?
Нет, мой муж, Евгений Оттович Фельгенгауэр, был переводчиком, переводил на английский язык в основном художественную литературу и стихи (Пушкина, Лермонтова, Ершова). Значительную часть жизни он прожил в Америке. Его отец – латышский немец, мама – полуполька-полурусская из Смоленской области. Мать и братья свекра эмигрировали в Америку еще до революции. Будучи очень идейным социал-демократом, он вернулся делать революцию в Россию после 1917 года. Ехал в Россию через Японию, потому что всюду в Европе были фронты в это время. Добрался до Москвы, служил в Красной армии, участвовал в Гражданской войне. Здесь он полюбил медсестру, и они поженились, родились дети, и, когда моему мужу было пять лет, они поехали в Америку, в основном показать внуков, а может, чувствовали, что что-то назревает. Шел 1926 год.
Уехать было уже сложно?
Они смогли уехать из России, хотя и через Латвию, с трудом. Они уехали и 12 лет жили в Америке, в Филадельфии, у его родных. А потом решили сюда вернуться ни больше ни меньше как в 1937 году. Они же не знали, что здесь делается.
Их пригласили?
Нет. Просто, поскольку они не меняли гражданства, они вернулись в 1937 году. Муж свободно владел английским, он даже хуже знал русский, ошибку мог сделать в русском языке, поскольку он учился в американской школе.
У вас со всех сторон была подмоченная репутация.
Но все же чаша такая, как аресты, к счастью, миновала. Я помню моего свекра, очень интересный был человек, с очень прочными социал-демократическими убеждениями. У него в паспорте стояло «русский». К нему приходил участковый (меняли паспорта вскоре после войны) и говорил: «Ну какой же ты русский – Отто Эрнестович Фельгенгауэр! Не можешь ты быть русским. Признайся, кто ты. Ведь и родился ты в Латвии». А он отвечал: «Ну и что, а если бы я в конюшне родился, я что, лошадью бы был?[74] Я был подданным Российской империи, значит, русский».
А с кем из учеников Бернштейна вы контактировали? Были вообще у него ученики? Школа?
Во всяком случае, в Институте физкультуры не было. Были технические сотрудники, не знающие всемирной литературы, не знающие языков. Институт физкультуры – это, так сказать, была их работа.
А Бернштейн знал одиннадцать языков. Сам сочинял музыку.
Да. И потом, в Институте гигиены труда коллектив тоже не сложился, так как Николай Александрович там очень недолго работал. Из его учеников я знаю только Гурфинкеля. Мы с Гурфинкелем контактировали на семинаре Осовца. Я бывала в его лаборатории. В общем, какие-то контакты с Гурфинкелем были.
Да, Гурфинкель пришел в лабораторию Бернштейна в Институте протезирования после войны… Последние годы жизни Бернштейна, когда вы с Николаем Александровичем уже не контактировали, что-то вы о нем все же слышали?
Какие-то слухи доходили. Как будто у него был рак печени. Он сам поставил себе диагноз и якобы добровольно ушел из жизни. Такие слухи ходили.
Что вы можете сказать о том, как проходила жизнь в лаборатории Бернштейна?
Я непосредственную (экспериментальную) работу с ним не начала. Обсуждалась тема моей работы. Тренировка боксера, техника удара по груше. Исследование работы различных мышц, моторных единиц. Я в дипломной работе занималась моторными единицами, правда на нервно-мышечном препарате лягушки. С микроэлектродами исследовала работу одиночных мышечных волокон, моторных единиц. В какой-то степени я собиралась это продолжать, и Николая Александровича это интересовало. Собирались мы электромиографию начинать. Но все это, к сожалению, не осуществилось.
Он с вами это обсуждал?
Он мало обсуждал.
Вы читали, приходили к нему и делали свои предложения?
А он говорил: «Давайте подумаем, заканчивайте минимум, и будем тогда что-то делать».
Поскольку работа не начиналась, то и обсуждать было нечего.
Да. Кстати, одним из упреков Николаю Александровичу было то, что он совершенно не руководит аспирантками, они, мол, ничего не делают, читают какие-то книжки, о чем-то думают, все это оторвано от практических задач, от задач, которые стоят перед советской физкультурой и спортом[75]. Типичный, в общем, набор… Атмосферу тех дней вы не поймете. Нет, вы не поймете… к счастью.
Я что-то могу воспроизвести по разговорам моих дедушек.
Я считаю, что мне еще крупно повезло, учитывая моего мужа и его происхождение. Я помню до сих пор, как мы каждую ночь просыпались и боялись. Я до сих пор помню эти ночные страхи. Обычно они приходили в четыре-пять утра.
Похороны Николая Александровича.
Гражданская панихида была в Президиуме АМН[76]. Помню, я ходила. Явно у него было заболевание печени, он был весь желтый.
О посмертной славе его вы знали?
Ну конечно, я знаю, что он великий ученый. Но о том, что его так высоко ставят в Америке… Это, наверное, справедливо.
Не только в Америке. Во всем мире.
Я рада, что моя невестка Лена Максимова [Максимова Е. В.] (первая жена сына) тоже интересуется его трудами. Я много ей рассказывала, и книжку его она прочитала и использует основные положения. Она, как и я, окончила кафедру физиологии МГУ, они с моим сыном там и познакомились. Мой сын, Павел Фельгенгауэр, работал в области молекулярной биологии в Институте биологии развития АН СССР, кандидат наук. А потом случилась перестройка, и сын ушел в журналистику. Он, собственно, всегда был гуманитарием по устремлениям, но поступить на исторический факультет Московского университета для него было абсолютно нереально. А даже если бы поступил, кем бы он стал? Преподавателем истории или марксизма-ленинизма? Сейчас он довольно известный в мире политолог, обозреватель