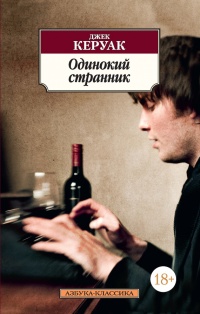Книга В дороге - Джек Керуак
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Где-то тут у меня есть прекрасный ремень, я его раздобыл в Фредерике, Мериленд. Черт, неужели я оставил его на прилавке в Фредериксберге?
– Вы хотите сказать, в Фредерике?
– Да нет же, в Фредериксберге, Виргиния!
Он постоянно твердил о Фредерике, Мериленд и Фредериксберге, Виргиния. Шел он прямо по дороге, наплевав на обгонявший его транспорт, и несколько раз его едва не сбили. Я брел в кювете. Каждую минуту я ждал, что бедный маленький безумец улетит в ночь, мертвый. Тот мост мы так и не нашли. У проезда под железнодорожным полотном я его бросил и, пропотев после столь долгой пешей прогулки, сменил рубашку и надел еще два свитера. Мое печальное переодевание происходило при свете придорожной закусочной. На темной дороге появилось целое семейство, они пытались разглядеть, чем я там занимаюсь. Самым удивительным было то, что в этом захолустном пенсильванском трактирчике тенор-саксофонист играл превосходный блюз; я слушал и стонал. Пошел проливной дождь. Какой-то парень отвез меня назад, в Харрисберг, и сказал, что я ошибся дорогой. Неожиданно я увидел своего маленького бродягу, он стоял под унылым фонарем, подняв руку с оттопыренным большим пальцем, – одинокий бедняк, несчастный, заблудившийся бывший мальчик, а ныне – сломленный призрак убогих пустынь. Я рассказал о нем своему водителю, и тот остановился поговорить со стариком.
– Послушай, дружище, так ты попадешь на Запад, а не на Восток.
– Чего? – произнес маленький призрак, – Уж не хочешь ли ты сказать, что я не знаю здешних дорог? Да я всю страну пешком исходил. А сейчас направляюсь в Канадию.
– Но эта дорога ведет не в Канаду, это дорога в Питсбург и в Чикаго.
Человечек почувствовал к нам отвращение и удалился. Вскоре осталась видна лишь его подпрыгивающая сумочка, растворяющаяся во тьме скорбных Аллегейнских гор.
Я считал, что вся дикая местность Америки расположена на Западе, но Призрак Саскуэханны доказал мне обратное. Нет, дикая местность есть и на Востоке; это та дикая местность, по которой во времена запряженных волами повозок тащился Бен Франклин, когда был смотрителем почтовой станции; та же, какой она была, когда Джордж Вашингтон неистово сражался с индейцами, когда Дэниел Бун рассказывал при свете пенсильванских светильников свои истории и обещал отыскать горный проход, когда Брэдфорд построил свою дорогу и люди с радостными криками пустились по ней в путь в деревянных фургонах. Для маленького человечка тут не было бескрайних просторов Аризоны, а была всего-навсего заросшая кустарником девственная местность восточной Пенсильвании, Мериленда и Виргинии, были проселочные дороги, которые вьются между скорбными реками вроде Саскуэханны, Моногахелы, старого Потомака и Монакаси.
Той ночью в Харрисберге мне пришлось спать на вокзальной скамейке; на рассвете станционное начальство вышвырнуло меня на улицу. Разве не правда, что мы начинаем свою жизнь под родительским кровом верящими во все на свете милыми детьми? Потом наступает День потерявших веру, когда понимаешь, что ты жалок, несчастен, беден, слеп и гол и, словно вселяющий ужас, убитый горем призрак, с содроганием продираешься сквозь нескончаемый кошмар этой жизни. Еле передвигая ноги, я выбрался со станции. Я больше не владел собой. Все, что я видел тем утром, была белизна, подобная белизне смерти. Я умирал с голоду. В качестве калорий у меня были только остатки пастилок от кашля, купленных несколько месяцев назад в Шелтоне, Небраска. Их я и пососал в надежде на содержащийся там сахар. Просить милостыню я не умел. Я поковылял прочь из города, и мне едва хватило сил добраться до городской черты. Я знал, что, если проведу в Харрисберге еще одну ночь, меня арестуют. Проклятый город! Следующим, кто подобрал меня на дороге, был тощий, изможденный человек, который верил, что нормированное голодание идет на пользу здоровью. Когда мы катили на восток и я сказал ему, что умираю с голоду, он ответил:
– Прекрасно, прекрасно, знаешь, как это полезно! Я и сам три дня не ел. Собираюсь дожить до ста пятидесяти лет.
Он был просто мешком костей, лопнувшей надувной куклой, сломанной палкой, маньяком. А ведь мог бы меня подвезти и богатый толстяк, который сказал бы: «Давай-ка остановимся у этого ресторанчика и съедим свиную отбивную с бобами». Так нет же, в то утро меня вез маньяк, свято веривший в голодание ради здоровья. Через сотню миль он разжалобился и достал с заднего сиденья хлеб и масло, припрятанные среди образцов его товара. Он ездил по Пенсильвании и торговал сантехникой. Я с жадностью уничтожил и хлеб, и масло. Неожиданно я расхохотался. Совершенно один я сидел в машине, дожидаясь, пока он закончит свои деловые визиты в Аллентауне, и все смеялся и смеялся. Боже, как мне опостылела жизнь! Однако этот сумасшедший довез меня до самого Нью-Йорка.
Вдруг я очутился на Таймс-сквер. Восемь тысяч миль прокатил я по Американскому континенту, и вот я снова на Таймс-сквер, да еще прямо в час пик. Своими наивными, привыкшими к дороге глазами я увидел полнейшее безумие и фантастическую круговерть Нью-Йорка с его миллионами и миллионами, вечно суетящимися из-за доллара среди себе подобных. Безумная мечта: хватать, брать, давать, вздыхать, умирать – только ради того, чтобы быть погребенными на ужасных городах-кладбищах за пределами Лонг-Айленд-Сити. Высокие башни страны – противоположный ее край, место, где рождается Газетная Америка. Я стоял у входа в подземку, пытаясь набраться храбрости и подобрать чудесный длинный окурок, и каждый раз, как я наклонялся, огромная толпа проносилась мимо и скрывала его из виду, и в конце концов окурок растоптали. У меня не было денег, чтобы добраться домой на автобусе. От Таймс-сквер до Патерсона еще немало миль. Можете вы представить себе, как я шагаю эти последние мили пешком через туннель Линкольна или по мосту Вашингтона и как вхожу в Нью-Джерси? Смеркалось. Где же Хассел? В поисках Хассела я оглядел площадь; его там не было, он был на острове Райкер, за решеткой. Где Дин? Где все? Где жизнь? У меня был дом, куда я мог пойти, место, где можно преклонить голову и сосчитать потери, сосчитать и обретения, которые, как я знал, тоже были, несмотря ни на что. Мне пришлось просить подаяния – двадцать пять центов на автобус. В конце концов я набрел на стоявшего за углом православного священника. Нервно озираясь, он вручил мне четверть доллара. Я немедленно помчался к автобусу.
Добравшись домой, я съел все, что было в леднике. Тетушка встала и посмотрела на меня.
– Бедный малыш Сальваторе, – сказала она по-итальянски. – Ты просто отощал. Где ты был все это время?
На мне были две рубашки и два свитера; в парусиновом мешке лежали рваные брюки с хлопковой плантации, а в них были завернуты изодранные в клочья остатки башмаков «гуараче». Мы с тетушкой решили на деньги, которые я высылал ей из Калифорнии, купить новый электрический холодильник; он должен был стать первым в нашей семье. Тетушка ушла спать, а я допоздна не мог уснуть и без конца курил в постели. На столе лежала моя полузавершенная рукопись. Был октябрь, был дом и вновь была работа. В оконное стекло стучались первые холодные ветры, я успел как раз вовремя. Без меня приходил Дин, он ждал меня и несколько раз ночевал. Дни он коротал за разговором с тетушкой, пока та трудилась над громадным лоскутным ковром, который годами составляла из всей одежды моей семьи и который теперь был закончен и брошен на пол моей спальни – не менее сложный и разнообразный, чем само течение времени. А потом, за два дня до моего приезда, Дин ушел, и пути наши пересеклись, наверно, где-нибудь в Пенсильвании или в Огайо; он отправился в Сан-Франциско. Там у него была своя жизнь. Камилла только что нашла квартиру. Мне так и не пришло в голову заглянуть к ней, когда я был в Милл-Сити. Теперь же было слишком поздно, и вдобавок я разминулся с Дином.