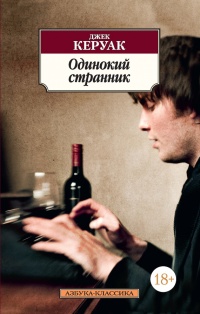Книга В дороге - Джек Керуак
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хлопнув дверью, вышла Терри. Я заговорил с ней на темной дороге:
– Что случилось?
– Ах, мы все время воюем. Он хочет, чтоб я завтра пошла на работу. Говорит, что не желает, чтобы я валяла дурака. Салли, я хочу с тобой в Нью-Йорк.
– Но как?
– Не знаю, милый. Я не смогу без тебя. Я тебя люблю.
– Но я должен ехать.
– Да-да. Пойдем приляжем еще разок, и тогда ты уедешь.
Мы вернулись в амбар, и там, под тарантулом, занялись любовью. Интересно, что в это время делал тарантул? Лежа на корзинах, мы уснули у догорающего огня. В полночь она ушла. Отец ее был пьян. Я слышал, как он ревет; потом, когда он уснул, наступила тишина. Над сонной округой мерцали звезды.
Наутро в ворота амбара просунул голову Фермер Хеффелфингер.
– Ну как ты там, дружище?
– Отлично. Ничего, что я здесь поселился?
– Конечно. Ты что, связался с этой мексиканочкой?
– Она прекрасная девушка.
– К тому же хорошенькая. По-моему, старому горлопану наставили рога. У нее голубые глаза.
Мы поговорили о его ферме.
Терри принесла завтрак. Я уже уложил свой парусиновый мешок и был готов отправиться в Нью-Йорк, осталось только забрать в Сабинале деньги. К тому времени они уже должны были меня ждать. Я сказал Терри, что уезжаю. Она думала об этом всю ночь и смирилась. В винограднике она холодно поцеловала меня и пошла прочь вдоль рядов лозы. Разойдясь на двенадцать шагов, мы оба обернулись – ведь любовь это дуэль – и в последний раз взглянули друг на друга.
– Увидимся в Нью-Йорке, Терри, – сказал я.
Через месяц она хотела поехать с братом в Нью-Йорк. Но мы оба знали, что ей это не удастся. Через сотню футов я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее. Она спокойно шла к лачуге с тарелкой из-под моего завтрака в руке. Склонив голову, я наблюдал за ней. Ничего не поделаешь, я вновь собрался в дорогу.
Я направился в Сабинал по шоссе, грызя сорванные с дерева грецкие орехи. Балансируя на рельсе железной дороги «Сазерн Пасифик», я миновал водонапорную башню и фабрику. С каждым шагом что-то во мне умирало. На железнодорожном телеграфе я должен был получить перевод из Нью-Йорка. Телеграф был закрыт.
Я выругался и уселся ждать на ступеньки. Вернулся кассир, он пригласил меня войти. Деньги были на месте. Тетушка опять спасла мою ленивую задницу.
– Как по-вашему, кто в будущем году выиграет Мировую серию?[9]– спросил старый изможденный кассир.
До меня вдруг дошло, что уже осень и что я возвращаюсь в Нью-Йорк.
Я зашагал вдоль железнодорожного полотна, среди нескончаемого печального октябрьского света долины, надеясь, что мимо пройдет товарняк и я смогу присоединиться к жующим виноград бродягам и посмеяться вместе с ними над газетным юмором. Поезд так и не появился. Я вышел на шоссе и сразу поймал попутку. Это была самая стремительная и шумная поездка в моей жизни. Водитель был скрипачом из калифорнийского ковбойского ансамбля. Его новенький автомобиль мчал со скоростью восемьдесят миль в час.
– За рулем я не пью, – сказал он и протянул мне бутылку; я отхлебнул и вернул ему, – Да какого черта! – воскликнул он и тоже выпил.
Двести пятьдесят миль от Сабинала до Лос-Анджелеса мы проехали невероятно быстро – за четыре часа. Он высадил меня прямо перед зданием «Коламбиа Пикчерс» в Голливуде. Я явился туда как раз вовремя и забежал забрать свой отвергнутый сценарий. Потом я купил билет на автобус до Питсбурга. На весь путь до Нью-Йорка денег у меня не хватало. На этот счет я решил побеспокоиться, когда доберусь до Питсбурга.
Автобус отходил в десять, и у меня было четыре часа, чтобы одному побродить по Голливуду. Перво-наперво я купил батон хлеба и салями и соорудил себе в дорогу десяток бутербродов. У меня остался доллар. Усевшись на низкую цементную стенку позади голливудской автостоянки, я принялся делать свои бутерброды. Пока я трудился над этой нелепой задачей, в небо, в это гудящее небо Западного Побережья, вонзились яркие лучи солнечных прожекторов голливудской премьеры. Вокруг меня шумел сумасшедший большой город на золотом берегу. Вот и вся моя голливудская карьера – в свой последний вечер в Голливуде я брызгал себе на колени горчицей, сидя позади автостояночного сортира.
На рассвете мой автобус мчался по пустыне Аризона – Индио, Блайт, Сейлом (где она танцевала); бескрайние пересохшие пространства, уходящие на юг, к мексиканским горам. Потом мы повернули на север, к горам Аризоны, Флагстаффу, городкам среди скал. У меня была книга, которую я стащил в голливудском ларьке, – «Le Grand Meaulnes»[10]Алена-Фурнье, – но я предпочитал читать проплывающий за окошком американский пейзаж. Каждая рытвина, каждый подъем и ровный участок обостряли мою тоску по дому. В кромешной ночной тьме мы миновали Нью-Мексико; хмурый рассвет застал нас в Далхарте, Техас; унылым воскресным днем мы один за другим проезжали равнинные городки Оклахомы; в сумерках – Канзас. Автобус мчался дальше. Я возвращался в октябре. Все возвращаются домой в октябре.
В полдень мы приехали в Сент-Луис. Я прогулялся по берегу Миссисипи и поглазел на бревна, которые сплавляются с севера, из Монтаны, – великая одиссея бревен нашей континентальной мечты. В иле засели старые, кишащие крысами пароходики с их кружевным орнаментом, завитки которого совсем скрутились и поблекли от непогоды. Над долиной Миссисипи нависали громадные послеполуденные облака. А ночью автобус мчался сквозь кукурузные поля Индианы; луна высвечивала призрачные кучи листьев, приближался канун Дня Всех Святых. Я познакомился с девушкой, и всю дорогу до Индианаполиса мы обнимались и целовались. Она была близорука. Когда мы вышли перекусить, мне пришлось за руку отвести ее в буфет. Она купила мне поесть: все мои бутерброды давно кончились. В обмен я развлекал ее длинными историями. Она ехала из штата Вашингтон, где провела лето на сборе яблок. Жила она на ферме, на окраине штата Нью-Йорк. Она пригласила меня туда. Мы условились в любом случае устроить свидание в нью-йоркской гостинице. В Коламбусе, Огайо, она сошла, и весь остаток пути до Питсбурга я проспал. Так я не выдыхался уже долгие годы. Мне еще предстояло голосовать триста шестьдесят пять миль до Нью-Йорка, а в кармане у меня был десятицентовик. Чтобы выбраться из Питсбурга, я прошагал пять миль, и две машины – грузовик с яблоками и большой трейлер – теплой дождливой ночью бабьего лета довезли меня до Харрисберга. Я мчался без остановок. Я хотел добраться домой.
Это была ночь Призрака Саскуэханны. Призраком был сморщенный старикашка, который заявил, что направляется в «Канадию». Он шел очень быстро, велев мне следовать за ним и сказав, что впереди есть мост, по которому можно перейти реку. Ему было лет шестьдесят; он непрерывно рассказывал о том, сколько у него с собой еды, сколько ему дали масла для блинчиков, сколько лишних кусков хлеба; как в Мериленде старики окликнули его с приютского балкона и пригласили недельку у них погостить; как перед отъездом он принял чудесную горячую ванну; как в Виргинии он нашел на обочине дороги совершенно новую шляпу, и именно она сейчас у него на голове; как он во всех городах заходил в Красный Крест и показывал удостоверение участника Первой мировой войны; как не оправдал своего названия харрисбергский Красный Крест; как ему удавалось выжить в этом безжалостном мире. Однако, насколько я мог понять, он был всего лишь полупочтенным нищим бродягой, исходившим пешком всю восточную дикую местность, совершая налеты на конторы Красного Креста, а то и попрошайничая на углах главных улиц. Семь миль мы прошагали вдоль скорбной Саскуэханны. Эта река вселяет ужас. По обоим берегам ее находятся поросшие кустами утесы, которые, словно косматые призраки, нависают над неведомыми водами. Все поглощает черная ночь. Иногда с железнодорожной станции на другом берегу поднимается громадное красное паровозное пламя, которое высвечивает жуткие скалы. Человечек сказал, что в сумке у него есть прекрасный ремень, и мы остановились, чтобы он смог его оттуда выудить.