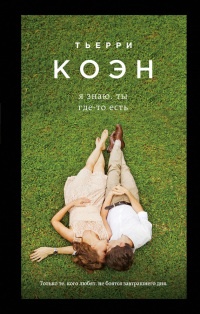Книга Русскоговорящий - Денис Гуцко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как в кино — между двух автоматчиков с оттопыренными вперёд стволами — он был препровождён в комендатуру. Усач с Онопко ушли вперёд: негоже офицерам сопровождать арестованного солдата (иными словами, в западло). Всё же нервничали оба. Никого ещё здесь на «губу» не сажали. А вдруг что…
— Если побежит, вы его прикладами, да не жалейте, — сказал Усач.
Мол, прикладами — не вздумайте палить, мало ли что там в Уставе, а то с вас дураков станет.
Роли конвойных исполняли свои же, из третьей роты. В третьей — одни пэтэушники. Нововведение, эксперимент. Говорят, в прошлый набор были все в куче, так студенты были бедные. Не любят пэтэушники студентов, а в стайной жизни понимают куда как лучше. С третьей вторая и первая общались не очень, разве что земляк с земляком, да и то с прохладцей: третья смотрела на всех свысока. Даже легенду придумали — якобы в случае войны с Турцией они, третья рота — самые что ни наесть смертники, их будут первыми бросать на захват перевалов.
Стволы они держали чётко, особенно задний — притормозишь, получишь в позвоночник.
«И ведь обработают прикладами, бровью не поведут».
До самой комендатуры, до кабинета дежурного, конвойные не проронили ни слова.
— Сдать оружие, — скомандовал дежурный.
— Кому?
— Ну положи на стол, вот сюда. Не тупи́, Вакула. И ремень сними.
Онопко уже не было. Видимо, ходил для того, чтобы его опознать. Митя положил свой АК на стол, сдвинув какие-то папки. Рядом положил ремень.
— А кто мне ремень вернёт?
— Курсант Вакула, вам объявлено десять суток ареста за невыполнение приказа старшего по караулу. Как поняли?
— Что?! Как — по караулу??
— Что ты чтокаешь, уродец?! — и официально — За невыполнение приказа разводящего вам объявляется десять суток ареста.
«Так, значит, это Лёха??»
— Как поняли, Вакула?
— Так точно, понял! Есть десять суток ареста! А ремень?
— Заткнись, тупорылый. Крууу-гом!
Вели в сторону ОВД. Через чешуйчатую площадь и вдоль тёмного под сомкнувшимися кронами переулка — ни слова, свирепое молчание. Митя чувствовал его. Вдыхал как запах. Пахло оно тошнотворно.
Разгромленное ОВД охраняли одни краснодарцы, солдат на этот объект Стодеревский не выделил. К тому же, курсантов школы милиции было в переизбытке. Надо же их чем-то занять. Стодеревский отдал им свой автомат, тот, с которым стоял возле горящей пожарной машины. Заступали сюда втроём, запирали на ночь ворота и по очереди сидели у окна, сквозь дрёму прислушиваясь к ночи. Если бы не автомат, ложись и спи — кому ты нужен… А за стволом могут и придти.
Теперь же, с заключённым в одной из камер ИВС, им добавлялась ещё одна головная боль.
АК стоял в углу разбитого приемника, возле печки-буржуйки. Никто комнату не прибрал, не вынес ненужную поломанную мебель. Топили папками с документами, кривенькими стопками стоявшими тут же, у печки. На стене красовался календарь: девушка в красном бикини на фоне моря.
Их встретили в штыки:
— Ни хрена не знаю, приказа нам никто не отдавал. Ведите обратно.
— Ты чё, с дуба ё….ся?
— Мой начальник мне прикажет, тогда хоть всех сажайте, а так, без его приказа…
— Хочешь, дежурный тебе прикажет? Дай телефон, я позвоню.
— С какого перепугу? Телефон служебный, а ты что за … с бугра, чтобы я его тебе давал? Так что, только если мой начальник прикажет. А его сейчас нет в городе.
— Чё ты заладил! Наш начальник здесь самый центровой. А ты совсем горбатого лепишь.
— Да?
— Да! Комендант города. Узнает, сам присядешь суток на несколько.
…По внутреннему дворику разбросаны обгоревшие папки, листы бумаги, осколки оконного стекла, стулья, огнетушитель, надколотый гипсовый Дзержинский. Посередине прямоугольный бассейнчик с фонтаном, с бурой лужей на самом дне. К кафельным бортам прилипли осенние листья. По углам двора совсем юные, человеческого роста, деревья. Стволы побелены. Дворик когда-то был уютным. Симпатичный, совсем не милицейский дворик. Трудно себе представить, что сюда втаскивали кого-то в наручниках, что пузатый полковник орал на вспотевших лейтенантов. Должно быть, люди в форме собирались здесь по утру (точь-в-точь как возле гостиницы), курили, негромко переговаривались. Хорошо, наверное, летом посидеть на бетонном бортике под прохладными иголочками брызг. Может быть, пили чай. Кипятили воду вон в том электрическом самоваре. Самовару досталось не меньше Дзержинского: ручки оторваны, в боку торчит пожарный багор… Кто-то явно нелюбил самовары. Но сидел ли когда-нибудь кто-нибудь в этих камерах? Ой, вряд ли. Разве что пьяный турист. Когда краснодарцы ворвались сюда, спасаясь от свистящей и стреляющей толпы, они застали камеры пустыми и незапертыми.
Митя думал об этом дворике красиво, как о каком-нибудь патио в разграбленном особняке. Щёлк! — голодное воображение только тронь — так и пошло выписывать узоры… шпаги, шляпы, веера, платочки… по борту фонтана идут павлины — те же, в сущности, куры, но в маскарадных костюмах…
— Так! Осу́жденный, проходи в хату, располагайся. Ну вас всех на …!
Прямо под ногами, из-под пыльного сапога и обрывка с машинописным: «Ведомость выдачи ор…» — торчало затоптанное, измочаленное, но самое настоящее, переливчатое павлинье перо. Митя улыбнулся. Он обожал, когда жизнь подбрасывала такие вот тайные знаки — непереводимые, но эффектные.
— И нечего было выё….ся. Мой начальник, мой начальник…
— Иди, иди давай, а то и тебя оформим вместе с этим.
Дверь за спиной скрипнула басом, лязгнула, и он остался в кромешной темноте, до сих пор чему-то улыбаясь.
…Опасное слово — Родина. Слово-оборотень. Вечный перевёртыш. Держи ухо востро, не отвлекайся — ведь обернётся чем угодно. Пойдут тогда клочки по закоулочкам.
Два человека — разные, с разных берегов. Но оба так легко говорят: Р о д и н а, — тот настырный агитатор в плаще и замполит Рюмин. Наверное, оба смогли бы пролить за неё кровь — по крайней мере, чужую. Она звенит для них металлом — и вокруг неё полощутся, громко хлопая на ветру, яркие слова-знамёна: Отстоять! Защитить! Дать Отпор! А Митю слово Родина смущает. Мучает. Умещается в нём и расплывчатая «страна берёзового ситца»… И посыпанные битым кирпичом дорожки парка Мушта́ид, после которых подошвы долго пачкают асфальт. Много в нём, в этом опасном слове. Бой Курантов на Новый год и тихая улица Клдиашвили, где в тринадцатом номере у циркача жил медвежонок — пока не вырос и не разорвал металлическую сетку курятника…
Чем обернётся для него Родина? Митя ищет, хватается то за одно, то за другое — ни то ни другое не спасает. Расползаются сгнившей ветошью и кумачовое пугало, и та «Родина — наша мать», ради которой нужно жечь и ненавидеть. Ему нужно другое. Он предпочитает творить её сам. Из чего-нибудь живого, из того, что первым идёт на ум.