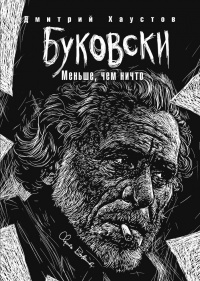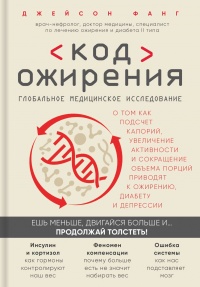Книга Лекции по философии постмодерна - Дмитрий Хаустов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хайдеггер мог позволить себе пафос деструкции, потому что история философии для него – это более или менее ошибка, забвение изначального (досократического) вопрошания о бытии. Задача философа, таким образом, вернуться в этот исток, туда, где еще не видна работа забвения онтологического вопрошания. Что касается Деррида, то для него все это в высшей степени сомнительное предприятие. Откуда мы взяли этот исток, это чистое вопрошание, если не из остатков, следов той самой истории философии, которую при этом почему-то решили назвать заблуждением? Что нам известно о подлинном истоке, если все, что у нас есть, это только неподлинные, ошибочные следы? Как нам дойти до того, чего нет, если все, что есть, это – не то, все не то? Хайдеггер совершает головокружительный прыжок через бездну, смысл которого как раз-таки ясен из противоположности наших исходных приставок: он хочет допрыгнуть – от деструкции (полного отрицания) прямо к конструкции (полного полагания), от заблуждения сразу же к смыслу, к первоистоку, к целому как философскому вопрошанию о бытии. Конечно, я сильно огрубляю суть дела – Хайдеггер совсем не об этом. Однако забвение парадоксального и неустранимого разрыва между смыслами «де» и «кон», безусловно, чревато тем метафизическим фантазерством, которого – в виде таких вот прыжков через бездну – в истории философии было с избытком.
Закончить работу деконструкции означало бы выйти к истоку, добраться до целости. Но напряжение между деструкцией и конструкцией, данными в одном жесте, не позволяет надеяться на результат – работа, вызванная подобным напряжением, не может быть доведена до конца. Как с близкой для Деррида проблемой перевода: нельзя с окончательной адекватностью перевести что-то с одного языка на другой; можно сколько угодно приближаться к этому, но разрыв все равно будет неустраним. Точно так же дела обстоят с онтологическим вопрошанием: перевод с языка бытия на язык философии невозможен. Он невозможен уже потому, что язык бытия – это только эффект языка философии, поэтому некое подлинное слово бытия может быть нами только предположено – как исток, который теряется за бесконечностью следов. Как вещь, которая чаема, но недостижима. Слово, по Гегелю, это негация, это отсутствие вещи. Также и философский дискурс о бытии есть отсутствие, есть отрицание самого бытия. Поэтому бытие остается с нами лишь в апофатическом модусе: как отрицаемое, как то, чего нет, как то, что не может быть названо. Но этот апофатический модус – он все-таки есть, поэтому возникает желание ускользающего, отсутствующего, невозможного. Если есть след, то мы знаем – или мы хотим знать, – что должен быть шаг, который этот след оставил. Как пел один полный гегельянского романтизма рок-исполнитель: «Если есть тело, должен быть дух». Мы грезим о нем и всеми силами призываем тот первый шаг, мы жаждем его отыскать. Но все, что находим – только следы. Вещь ускользает в длинных траншеях из бесконечных слов, и сам горизонт тут теряется в отрицании.
Во всяком случае, нам понятна метафизическая тоска по объекту, по целостности, по бытию. Эта тоска неустранима, но оттого не меньше порочна, фальшива авантюра прыжка – от «нет» к «да», от неданного к данному. В этом смысле Хайдеггер для Деррида, несмотря на его деструкцию метафизики, оказывается все еще метафизиком – как и для Хайдеггера, вспомним, все еще метафизиком оставался Ницше, несмотря на его разрушительный антиплатонизм. Он, говаривал Хайдеггер, есть перевернутый платонизм – а значит, по-прежнему платонизм, хоть и с обратным знаком. Тогда и Хайдеггер – это все то же, но только перевернутое метафизическое забвение бытия. Во всяком случае и Ницше, и Хайдеггер находятся в поле работы философского языка, который, скрывая всякую вещь в отрицании, не позволяет сделать прыжок из него к бытию – точнее, сделать такой прыжок можно, но с точки зрении философии он будет самоубийственным.
Если деконструкция – это, собственно, сам философский язык, взятый в его подчеркнутой парадоксальности, то ее оказывается очень сложно определить – ведь это означало бы соотнести ее с отсутствующим объектом через определение границ, то есть в этом акте еще раз претендовать на окончательность работы. Если ускользает объект, то ускользают границы – выходит, определение деконструкции – такая же бесконечная гонка, как и погоня за бытием. У нас, как и прежде, нет ничего убедительней апофатики: деконструкция – не критика, не анализ, не метод… Она убегает от собственных определений, как не добегает она до своего чаемого объекта. Деконструкция – не отдельный метод, потому что сам наш язык – уже деконструкция, ведь где, как не в нем, с такой точностью задано парадоксальное разнесение репрезентированной вещи и вместе отсутствия, отрицания презентации, самой этой вещи: «стол» не есть стол, слово не вещь, слово отрицает вещественность вещи, однако оно как-то связано с вещью, оно умудряется удержать ее через ее отсутствие – вот вам чистейший пример той а-топии, в которой деструкция (отрицание) и конструкция (утверждение) сцеплены вместе, да так, что не разорвать.
Деконструкция – не метод работы, но сама работа философского языка-мышления. Работа, вся состоящая из разрывов, осуществляемая в зазоре: между словами и вещами, языком и миром, логосом и бытием, дискурсом и знанием. Так как зазор непреодолим, работа не может закончиться. Все, что нам остается, – блюсти разрыв. Но это ответственная задача – когда разорванное норовит смешаться, космос и хаос сливаются до неразличимости, на свет выползают чудовища – те, о которых у Гойи. Работа деконструкции, работа различия – вся в пристальном внимании к знаку, к слову и тексту. Это чтение и перечитывание, которое в конечном итоге становится не чем иным, как письмом. Если выйти за пределы знака мы не в состоянии, если нам запрещено, невозможно прыгнуть от знаков к вещам, все, что нам остается, – предельно серьезная знаковая игра. Не имея внешнего (ничего, кроме текста, скажет Деррида), знаковая игра самодостаточна – она сама себе цель, сама себе средство. Однако незримый предел и непреодолимое отставание от предполагаемого истока обращает самодостаточность в вечную нехватку, в отсутствие желаемого объекта. То есть внешнего нет, но неизбывна тяга вовне – тоже противоречие, значимое, как ничто иное.
Деконструкция – не метод, но и не анализ. Анализ – это работа расчленения, рассечения и раздела сложного целого с целью добраться до самых простых элементов – до элементарных частиц. Это мания атомизма – найти простейшее, которое, будучи далее не разложимым, все бы смогло объяснить. Здесь, таким образом, снова заявляет о себе лихорадка по истоку, желание добраться до последних вещей. Но если работа различия, зазор между следом и шагом неизбывна, значит, ностальгия по неуловимому истоку – имя все той же иллюзии, заставляющей нас с преступной оплошностью выдавать слова за вещи. Смешивающая хаос и космос, ностальгия по истокам – на атомистский манер или на какой-то иной – служит источником всякого зла, коренящегося в неразличении, в истерическом неприятии зазоров, расколов в существе мира, невосполнимой неполноценности существования. Залатать дыру – значит совершить преступление, солгать, объявить не-сущее сущим. Сказать, что завтра настанет социализм, сегодня убив ради этого миллионы людей. Сказать, что страна, не раз изнасилованная и разграбленная, пышет здоровьем и величием. Сказать, что у человека в кармане билет в Царство Небесное.